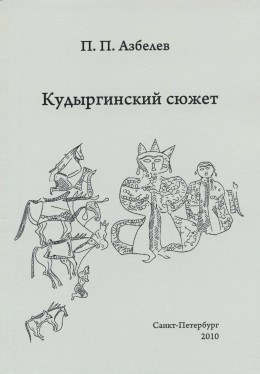 П.П. Азбелев
П.П. Азбелев
Кудыргинский сюжет.
// СПб: 2010. 60 с. ISBN 978-3-98709-277-4
4. Катандинский «ренессанс».
Если Восточный каганат был ещё прямым продолжением Первого, лишь утратившим власть над западными землями, то десятилетия, прошедшие между падением Восточного каганата и созданием Второго, знаменовались глубокой культурной трансформацией. Её суть в том, что на первый план вышли ранее второстепенные племена т.н. телеской группы, гаогюйские поколения, чьими силами тюрки «геройствовали в пустынях севера» и чьи традиции легли в основу новых тюркских культур катандинского этапа.
Наиболее выразительные перемены в материальной культуре были таковы: обновился престижный вещевой комплекс — воинские поясные наборы (на смену «круглобляшечным» и «геральдическим» раннетюркским гарнитурам пришли «геометрические», составленные из бляшек со смещённой щелевой прорезью, морфологически восходящих к пазырыкским прототипам), конские узда и сбруя (сменились господствующие типы удил и псалиев, причём распространённая с этого времени S-образная форма стержня имеет, как и поясные бляхи-оправы, пазырыкские прототипы). Пояс и сбруя — важнейшие компоненты государственной культуры кочевников, и «возрождение» пазырыкских традиций на катандинском этапе означало, что произошедшая культурная трансформация была не то что глубокой — её с полным правом можно именовать радикальной. Пазырыкские традиции, конечно же, должны были где-то сохраняться на протяжении первой половины I тыс. Об их «фоновом» бытовании, как и о механизмах взаимодействия с традициями кудыргинского этапа, позволяют говорить и вещественные материалы, прежде всего поясные наборы. [33] Нет сомнения, что и среди S-образных псалиев эпохи раннего средневековья по мере накопления материала найдутся экземпляры и раннетюркского, и предтюркского времени, и гунно-сарматской эпохи — слишком мала вероятность того, что нефункциональный признак столь употребительной категории материальной культуры был «выдуман» заново без какой-то вещественной основы.
Наряду с появлением «ренессансных» инноваций продолжалось и развитие важнейших культурных инноваций предшествующего этапа. Были выработаны основные типы стремян, ставших теперь массовой категорией погребального инвентаря (вместо стремян с плоским кор-
(33/34)
пусом, узким подножием и с петлёй на высокой невыделенной пластине, ещё редко попадавших в состав погребального инвентаря, но уже широко использовавшихся и в быту, и на войне — распространились и стали почти обязательными находками в курганах стремена со стержневым корпусом, широким подножием и либо с 8-образными петлями, либо с петлями на выделенной пластине).
Существенные изменения произошли в ритуальной сфере. Появилась руническая письменность и традиция установки каменных изваяний. Ханские мемориалы Второго каганата отличны от известных памятников Первого. [34] Как известно, погребальные традиции раннетюркской знати (сожжение с конём, не представленное пока в известных памятниках) пресеклись уже к 630-м годам, что зафиксировано китайскими источниками. И если в культуре Первого каганата имелся западный субстрат, хорошо заметный и в кудыргинских материалах, [35] то ко времени Второго каганата эти чужеродные элементы были уже в основном вытеснены или ассимилированы местными, центральноазиатскими. Это касается не только материальной культуры, но и языка. Так, по заключению С.Г. Кляшторного (1997: 162-163), иранское по происхождению имя элитного рода Первого каганата (ашина) в эпоху Второго каганата звучало и записывалось уже иначе, по-тюркски (кёк). Наконец, известные имена правителей Первого каганата — ещё не тюркские.
Всё это значит, что тюрки Второго каганата, воссоздавшие государство после долгих лет интернирования в танском Китае, были, в сущности, уже другим народом, и верования его так или иначе отличались от религиозных представлений ранних ашина. Во всяком случае, соотношение культовых составляющих раннетюркской Бугутской надписи с позднейшими данными рунических текстов указывает более на различия, чем на единство веры (впрочем, эта надпись, как показали её публикаторы, отражает ещё и идеологические опыты Таспар-кагана с буддизмом). И если рельеф навершия Бугутской стелы (Кляшторный,
(34/35)
Лившиц 1971: 122, фото; Кляшторный 2005: 90, Рис. 8) ясно подтверждает бытование в VI в. сохранённой в китайских источниках легенды о прародительнице-волчице, * то во времена Второго каганата, на что обращал внимание ещё Н.А. Аристов, у тюрков уже «не сохранилось в памяти» этого предания — орхонские надписи VIII в. отсчитывают историю народа лишь от первых каганов (Аристов 1896: 282), и навершия стел украшены уже не скульптурными иллюстрациями к генеалогическому мифу, а ханскими тамгами в виде стилизованного изображения горного козла, порой с дополнительными чертами. [36] Замечу кстати, что сведения об эпохе Первого каганата, содержащиеся в орхонских памятниках первой трети VIII в., вообще не уходят за пределы известного по китайским хроникам. Но это уже отдельная тема.
Предлагаемый взгляд на «ренессансный» характер культурной трансформации VII в. любопытным образом оказывается созвучен концепции автохтонного сложения древнетюркской рунической письменности, предложенный в одной из недавних публикаций В.Г. Гузевым и С.Г. Кляшторным. По заключению авторов, руническое письмо ускоренно развивалось «на базе имеющегося национального графического фонда (каковой вполне могли составлять и тамги) в условиях жёсткого стимулирующего прессинга со стороны соседних письменных систем» — согдийской и китайской (Гузев, Кляшторный 2009: 172). Ровно то же самое происходило в VII в. и с материальными составляющими государственной культуры кочевников — поясными и сбруйными наборами: они развивались на основе глубоко укоренённой местной традиции и визуально противопоставлялись аналогичным элементам государственной культуры раннетюркского времени, доставшимся в наследство от былой «охраны согдийских караванов». И как будет показано ниже, эта осознанность стремления к выработке собственных культурных норм в семантически обременённых областях не исчерпывается руникой и престижной, знаковой фурнитурой.
Представления о прямой преемственности древнетюркских культур в VI-VIII вв. происходят во многом от общности принятого сегодня условного названия «степных империй» — Тюркские каганаты, от того, что китайцы использовали для обозначения этих держав одно и то же слово, — туцзюэ / тугю / тюркют = тюрки, а сами ханы Второго каганата, апеллируя к древности, подчёркивали и пропагандировали эту декларируемую преемственность. Однако с учётом различий
(35/36)
в культуре, перечисленных выше, нужно заключить: название тюрк (изначально — даже не этноним, а политоним, имя союза племён во главе с ашина) спустя несколько десятилетий после Первого каганата должно было восприниматься уже, выражаясь современно, прежде всего как «брэнд», обладание которым было более заявкой на статус, чем свидетельством о подлинном происхождении.
О «присвоении» громких названий писал ещё в XIII в. Рашид-ад-дин: «Из-за [их] чрезвычайного величия и почётного положения другие тюркские роды, при [всём] различии их разрядов и названий, стали известны под их именем и все назывались татарами. И те различные роды полагали своё величие и достоинство в том, что себя относили к ним и стали известны под их именем, вроде того как в настоящее время, вследствие благоденствия Чингиз-хана и его рода, поскольку они суть монголы, — [разные] тюркские племена, подобно джалаирам, татарам, ойратам, онгутам, кераитам, найманам, тангутам и прочим, из которых каждое имело определённое имя и специальное прозвище, — все они из-за самовосхваления называют себя [тоже] монголами, несмотря на то, что в древности они не признавали этого имени» (Рашид ад-дин 1952: 102; разбор связанных исторических коллизий см.: Кляшторный 1993). Нет причин думать, что за несколько веков до этого дело обстояло иначе. Сливаясь с тюрками, кочевые племена принимали их имя, элементы государственной культуры — но и сами мало-помалу меняли культурный облик народа-гегемона.
Ко всему этому добавляется и внешний источник путаницы: историографы осёдлых народов то превращали имя очередных хозяев степи в общий экзоэтноним для всех кочевых племён, то, наоборот, воспринимали последовательность гегемоний как этническую преемственность.
Проблему сходств и различий между культурами Первого / Восточного и Второго каганатов ещё предстоит корректно поставить и всесторонне исследовать, но и сказанного довольно, чтобы не переносить механически сведения орхонских рунических памятников первой половины VIII века на эпоху VI — начала VII вв.: правомерность экстраполяции всякий раз нужно обосновывать отдельно. В случае с валуном таких обоснований нет, и любые трактовки изображений на нём, исходящие из позднейшего тюркского пантеона, являются не более чем размышлениями интерпретаторов.
Таким образом, между культурами, со становлением и развитием которых было связано поклонение Тенгри, Умай и пр., а также расцвет традиции каменных изваяний, и культурой Кудыргинского мо-
(36/37)
гильника — целая пропасть. Сегодня мы в целом представляем себе происхождение основных компонентов древнетюркских культур эпохи телеских ханств и Второго каганата — всаднического погребального обряда, поясных и сбруйных гарнитур, комплекса вооружения, фигуративного и орнаментального декора, наконец, рунической письменности. Из важнейших «транскультурных» признаков катандинского этапа только для традиции изваяний пока не указаны вероятные прототипы предшествующего времени. Напрашивающееся сопоставление скифо-сарматской [37] и тюркской традиций — по совпадению положения рук, набора аксессуаров, изобразительных канонов (типов, выделяемых прежде всего по степени полноты передачи образа) — неизбежно сталкивается с территориальным и в ещё большей степени — хронологическим разрывом между ними. И вышеприведённая критика трактовки кудыргинского валуна как изваяния немного стоит, если не подкрепить её хотя бы предварительными предположениями о том, откуда же берёт своё начало традиция каменных изваяний — одна из самых ярких черт древнетюркских культур последней трети I тысячелетия.
[33] Подробно об этих поясных наборах см.: Азбелев 2010а. Поскольку в указанной работе рисунки по техническим причинам напечатаны очень мелко, воспроизвожу здесь один из них (Рис. 10).
[34] Классификацию, даты и культурно-государственную атрибуцию орхонских мемориалов см. у В.Е. Войтова, 1989: 4-10 и др.
[35] Некоторые из соответствующих кудыргинских вещей трактовались А.К. Амброзом (1971: 126) как прямые аналоги восточноевропейским находкам первой половины VIII в. Однако системное сопоставление сибирской и восточноевропейской «геральдики» показывает, что это разные ветви развития одной традиции, причём традиция эта — азиатского происхождения, хотя и с западным (восточноевропейским) субстратом (Азбелев 1993, 2009а). Поэтому прямая синхронизация восточноевропейских и кудыргинских находок некорректна.
* [добавление веб-версии: Существует, впрочем, и другое понимание этого плохо сохранившегося рельефа — как изображения драконов; но здесь важно не то, волчица ли изображена на Бугутской стеле, а то, что соответствующие представления не находят отражения в памятниках и полтора века спустя.]
[36] См., напр.: Малов 1959: Рис. 1, вклейка между с. 8-9. Именно эти дополнительные черты доказывают, что перед нами тамги, а не просто схематичные рисунки.
[37] В данном случае, как будет видно из дальнейшего изложения, это общее и не вполне корректное наименование допустимо, поскольку различия внутри этого массива памятников в нашем случае несущественны.
наверх
|