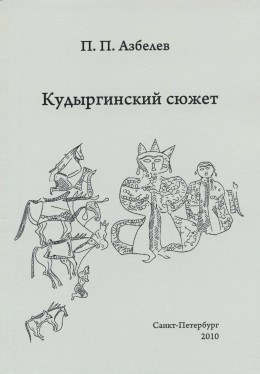 П.П. Азбелев
П.П. Азбелев
Кудыргинский сюжет.
// СПб: 2010. 60 с. ISBN 978-3-98709-277-4
5. Изваяния скифо-сарматские и древнетюркские.
Авторы исследований, посвящённых древнетюркским изваяниям, обычно уклоняются от вопроса об их происхождении, заменяя его обсуждение общими словами и изучением истории погребально-поминальной обрядности в целом. Чётче других это сформулировал Я.А. Шер в одной из лучших работ об изваяниях: «наша цель не заключается в том, чтобы обязательно построить непрерывный генетический ряд эволюции каменных изваяний от скифского времени до раннего средневековья. Можно усомниться в том, что такой ряд существовал в природе. Закономерности развития предметов материальной и духовной культуры слишком сложны, их описание на основе законов эволюции не может отразить всего многообразия этого процесса. Для нас было важно показать, что канонизированный образ воина с чашей в одной руке и с оружием на поясе уходит своими корнями в глубокую древность» (Шер 1966: 33).
Практически первым, кто попытался с позиций «эволюционизма» нащупать путь к решению проблемы происхождения тюркских изваяний, был Л.Р. Кызласов. Отнеся минусинские изваяния к таштыкской культуре, он предположил, что минусинская традиция погребальных масок развилась в традицию статуарных памятников и затем послужила основой для аналогичной тюркской традиции. [38] Идея Л.Р. Кызласова была явно неудачной. Минусинские маски оглахтинской культуры грунтовых могил (первой половины I тыс. н.э.) и культуры таштыкских
(38/39)
склепов (V-VII/VIII вв.), изготовленные из гипсовидной массы путём механического копирования (тем или иным способом) лица [39] — сохраняли облик покойного в предпогребальный период, по завершении которого захоранивались вместе с останками; дальнейшие прощальные церемонии сопровождались устройством особых сооружений (т.н. «поминальников» или «поминов», как их назвал М.П. Грязнов), не содержащих уже ни масок, ни каких-либо других изображений усопших. Тюркская же традиция сохраняет облик покойного не ради помещения его в могилу, но для постпогребальных обрядов, и передаёт индивидуальность не механическим воспроизведением лица, а через набор аксессуаров. «Портретными» в современном смысле слова изваяния становились лишь тогда, когда их изготавливали специально присланные китайские мастера — достаточно сравнить любое тюркское изваяние со знаменитым изображением Кюль-тегина. Таштыкские «бюстовые маски» гибли под землёй при сожжении склепов — а в тюркских рунических источниках говорится об установке «вечных памятников», в составе которых были обращённые к восходящему солнцу каменные изваяния. [40]
Даже если не учитывать, что памятники, определённые Л.Р. Кызласовым как таштыкские, на самом деле относятся к IX в., нельзя не заметить, что минусинские маски и тюркские изваяния решают задачу посмертного сохранения облика умершего совершенно разными средствами и с разной целью. Это безусловно раздельные пути развития изначально близких идей, за которыми стоит совершенно разное отношение к умершим. Наконец, не существует ни малейшей возможности указать правдоподобный исторический механизм осуществления предположенной Л.Р. Кызласовым преемственности: пусть бы даже таштыкцы и перешли от изготовления гипсовых масок к установке каменных фигур — с чего бы создателям грандиозной державы заимствовать обычаи небольшого засаянского народца, легко побеждённого ими в 550-х гг.?
(39/40)
Рассмотренная выше концепция Д.Г. Савинова, опирающаяся на «бесспорно раннюю», по мнению её автора, датировку «таштыкских» изваяний, по сути, развивает неудачную теорию Л.Р. Кызласова и страдает (независимо от корректности датировок и правомерности обособления изваяний с «повествовательными сценами») тем же основным недостатком: несогласованностью с известными историческими обстоятельствами. «Ранние», по Д.Г. Савинову, памятники — на периферии тюркского мира, тогда как утверждение столь широко распространившейся традиции могло происходить лишь в одном из самых значительных и влиятельных его центров.
Едва ли не основная проблема в изучении древнетюркских изваяний — неясность содержания большинства выделяемых по тем или иным признакам групп древнетюркских статуй. За разнообразием типов (изобразительных канонов) не стоят ни хронологические, ни (в большинстве случаев) этнокультурные различия — определить время и конкретизировать этнокультурную принадлежность можно лишь по реалиям и сопутствующим обстоятельствам. Именно поэтому так трудно проследить становление и развитие самой традиции: она словно бы появилась ниоткуда и распространилась одновременно на большой территории сразу во множестве вариантов. При явном внешнем сходстве с изваяниями скифо-сарматской эпохи древнетюркские отличаются от них не только по иконографическим признакам и морфологии реалий, но и по своей ритуальной функции, а главное — существует непреодолимый, на первый взгляд, хронологический разрыв между двумя массивами кочевнической скульптуры.
В отсутствие субстратного массива памятников остаётся предположить, что в основе древнетюркской традиции каменных изваяний — не эволюция прототипов, а идея, чёткая и ясная мотивация, к восприятию которой были в равной степени готовы самые разные племена, объединённые древнетюркской государственностью. Эта идея, коль скоро она оказалась воплощена, должна была определять приемлемое новое качество общеизвестных культурных норм — в данном случае ритуально-меморативных — и одновременно (как следует из типологического разнообразия изваяний) оставлять известный простор для выбора конкретных средств её воплощения, ориентированного на некие образцы, опять же общеизвестные. Эта идея должна была иметь некий центр — область первоначального распространения древнетюркской традиции изваяний, о которой заранее можно сказать лишь только то, что здесь должна была присутствовать хоть какая-то традиция круглой скульптуры. И конечно же, происхождение традиции каменных извая-
(40/41)
ний вовсе не должно быть увязано с происхождением поминальных оградок: ведь не всегда изваяния связаны с оградками, и далеко не все оградки сопровождаются статуями.
Вопрос о первоначальном ареале этой традиции практически не рассматривался в литературе: материал не даёт к такому поиску веских оснований. Однако, соотнося данные о распространении каменных изваяний со сведениями об истории древнетюркских государств, можно сделать некоторые логические заключения. С одной стороны, ареал изваяний, как уже отмечалось, куда меньше, чем территория Первого каганата; но с другой — этот ареал охватывает области, после развала этой державы более под одной властью не объединявшиеся вплоть до монгольского завоевания. К концу VII — началу VIII вв. традиция изваяний стала уже практически общетюркской — но в начале VII века её ещё не существовало. Единственным центром тюркской государственности, просуществовавшим в течение нескольких десятилетий этого столетия, т.е. как минимум два-три поколения, был Западный каганат с центром в Семиречье — где, как известно, сосредоточено большинство среднеазиатских изваяний древнетюркской традиции (Шер 1966), где соседство — вернее, симбиоз — тюрков с осёдлым населением региона создавал и технологические предпосылки для освоения каменотёсного дела, и где имелась возможность привлечения опытных иноэтничных мастеров. Естественным кажется вывод о том, что именно здесь и зародилась тюркская традиция каменных изваяний.
В число областей, оказавшихся под властью Западного каганата, входили восточные ареалы распространения изваяний скифской эпохи от Приаралья до Джунгарии. [41] Поэтому предположение о том, что именно Западный каганат был исходным центром традиции древнетюркских изваяний, снимает территориальную составляющую разрыва между скифской и тюркской традициями. Хронологический же разрыв остаётся. Но ведь изваяния — особая категория археологического материала: многие из них оставались «на свету» до наших дней, и нет сомнения в том, что в древнетюркскую эпоху изваяния скифо-сарматского времени встречались на поверхности куда чаще, чем в последующие века. И если кочевники позднейших эпох, как хорошо известно по этнографическим данным, повсеместно стремились переосмыслить древние статуи, так или иначе включить их в собственную мировоззренческую систему, то нет никаких оснований отказывать в таком же стремлении древнетюркским племенам.
(41/42)
Чтобы представить себе возможный механизм образования новой традиции, нужно учесть как историко-культурные, так и психологические обстоятельства. Стремление тюрков на запад в известной степени было для них (если верна моя гипотеза об охране согдийских караванов) не только экспансией, продвижением «фронтира», но и возвращением к своим древним корням, своего рода «реконкистой» мифологической и частично реальной прародины. Как было сказано выше, ко времени Второго каганата в результате культурной трансформации, знаменовавшейся созданием государственных культур катандинского этапа, западные черты раннетюркской культуры уже были вытеснены местными, центральноазиатскими традициями с базовыми элементами пазырыкского происхождения; но во второй половине VI столетия, когда и происходило завоевание, память о них, как и генеалогические предания о «Западном море», ещё была жива, и она неизбежно сопровождала экспансию тюрков Первого каганата с востока на запад. И мне кажется возможным предположить, что именно эта историко-мифологическая память о западном происхождении предков «выстрелила», когда первая тюркская держава в конце VI — начале VII вв. разделилась.
Западные тюрки (де-факто это были, разумеется, объединённые именем «тюрк» телеские и другие кочевые племена, чьё стремление к созданию собственных государств было простимулировано участием в экспансии под водительством ашина), отъединяясь от центральноазиатской метрополии, оказывались перед необходимостью утвердить свои права на захваченные земли и выработать собственную государственную культуру, не только отличающуюся от восточно-тюркской, но и более, чем она, отвечающую древним правилам — как их понимали создатели Западного каганата. Существенной частью этого комплекса культурных норм были погребально-поминальные церемонии. И там, где ранние тюрки в ритуале поминовения традиционно довольствовались «нарисованным обликом покойного», западные тюрки хотели воплощать ритуальные нормы в чём-то более впечатляющем и архаичном (ибо чем древнее — тем правильнее). Встречая на завоёванных землях многочисленные изваяния предшествующих эпох, они, предполагаю, восприняли эти статуи как доставшиеся от предков образцы (а может быть, просто провозгласили их таковыми, апеллируя к древности ради идеологической и политической выгоды) — и стали воспроизводить древние памятники, приспосабливая древний эталон к текущей палеоэтнографической реальности как по внешнему облику, так и по месту в ритуале. [42]
(42/43)
Новая традиция впечатляла — и распространялась среди многочисленных второстепенных племён тем быстрее, чем сильнее становился Западный каганат и чем явственнее был упадок восточных тюрков. При этом в качестве образцов могли восприниматься уже не только разнотипные скифо-сарматские изваяния, но и более древние памятники — там, где они были, — а конкретные формы воплощения новой культурной нормы зависели и от множества внешних обстоятельств — например, квалификации имевшихся мастеров, состоятельности заказчиков и т.п. Отсюда и типологическое разнообразие, изначально свойственное древнетюркской традиции изваяний и не поддающееся хронологическому наполнению, отсюда и своеобразие ранних сирских памятников из Унгету, один из которых даже имеет изображение фаллоса, совершенно несвойственное тюркской традиции, но обычное на изваяниях эпохи раннего железа (Рис. 5, 5). [43] Вероятно, устойчивые типы (изобразительные каноны) изваяний могут быть сопоставлены с теми или иными этническими группами — например, довольно уверенно можно говорить об особом сирском каноне изваяний из Унгету, или о группе изваяний с изображениями птиц вместо сосудов — но в других случаях подобные отождествления гипотетичны в той же мере, что и предлагаемая концепция сложения традиции в целом.
(43/44)
Когда ареал изваяний мог распространиться на Монголию, Алтай и Туву? Либо в середине — второй половине VII в., когда эти земли частью были сперва под Сирским, затем под Первым Уйгурским каганатом, частью — под влиянием восточнотуркестанских и восточноказахстанских степняков; либо уже в начале VIII в., от тюрков Второго каганата. Памятники из Унгету показывают, что во второй четверти VII в. традиция каменных изваяний уже существовала, хотя ещё и не в окончательном, привычном по большинству памятников облике. Более всего вероятно, что одно не исключает другого, и за разнообразием типов южносибирских изваяний стоит, среди прочего, последовательность внешних влияний и миграций. Позже всего, в IX в., эта традиция пришла в Минусинскую котловину, где изваяния явно вторичны и притом единичны.
Таким образом, зарождение традиции каменных изваяний предваряло вышеописанный «катандинский ренессанс». Люди, устанавливавшие первые статуи — каменные заместители усопших на поминальных церемониях — всё ещё ориентировались на мифоритуальную ценностную систему Первого каганата, но воплощать её стремились уже по-своему. Утверждение новой погребально-поминальной практики было, конечно же, постепенным и поэтапным; мы не можем сейчас проследить этот процесс в подробностях — но вполне вероятно, что давление нарождавшейся культурной нормы сказывалось и на восточных тюрках, и что частью его было и то забвение древних обычаев, в котором Тайцзун упрекал последних правителей Восточного каганата.
Конечно, вышеизложенная гипотеза во многом умозрительна, и я не вижу способа доказать её с опорой лишь на объективные факты; но она и не содержит ничего, что не умещалось бы в известную ныне картину древнетюркского мира, в логику его развития, и притом решает проблему соотношения традиций каменной скульптуры скифо-сарматской и древнетюркской эпох. Она, кроме того, показывает: нет необходимости выводить традицию древнетюркских изваяний ни из кудыргинского валуна, ни тем более из таштыкских масок или заведомо вторичных минусинских фигур — все эти памятники можно и нужно рассматривать как периферийные и локальные культурные феномены, тогда как глобальные для тюркского мира культурогенетические процессы происходили прежде всего в срединноазиатских степях.
Кудыргинский могильник в этой системе координат — памятник на стыке двух эпох, двух этапов развития древнетюркского мира. Он оставлен людьми, у которых не было нужды что-либо противопо-
(44/45)
ставлять традициям Первого и Восточного каганатов: наоборот, кудыргинская орда была осколком именно этой державы и в меру сил берегла её наследие. И если моя теория сколько-нибудь близка к истине, то валун не то что не служил изваянием — он появился в этнокультурной среде, хранившей раннетюркские традиции и безнадёжно противостоявшей новому тюрко-телескому миру, породившему изваяния. Поэтому, не принимая предложенную Л.Р. Кызласовым анахроничную реконструкцию семантики кудыргинской гравировки «из тюркского пантеона», следует, однако, согласиться с самим подходом к кудыргинскому валуну не как к «детскому изваянию», а как особому изобразительному памятнику, находившемуся в конкретном археологическом контексте.
[38] Л.Р. Кызласов о малоесинском изваянии: «…это несомненно портретное изображение реального лица, но не живого, а скончавшегося. Нет никакого сомнения в том, что это изваяние обязано своим происхождением таштыкским маскам. Оно совершенно определённо является переходным памятником от масок к каменным изваяниям и, с этой точки зрения, представляет интересное соединительное звено в генезисе каменных изваяний с изображениями человека, прежде всего покойного. Предшествующим звеном были маски-бюсты, которые предназначались для установления в вертикальном положении…», и далее: «Образуется любопытный генетический ряд: таштыкские погребальные маски лица — стоящие маски-бюсты — каменные бюстовые изображения (типа мало-есинского) — погрудные изображения с руками и сосудом (типа Кизи-тас) — тюркские каменные изваяния в виде круглой скульптуры человека с сосудом в руках. Таким образом, не подлежит сомнению, что тюркские каменные изваяния VI-VIII и последующих веков зарождаются ещё в предтюркское, таштыкское время. Любопытно, что центром их зарождения было Алтае-Саянское нагорье (Хакасско-Минусинская котловина и, вероятно, Алтай, на котором, правда, ранние изваяния ещё не найдены)». (Кызласов 1960: 159, 160).
[39] Наиболее представительное издание масок: Вадецкая 2009.
[40] Несомненно, тюркские изваяния были расчитаны на неоднократные церемонии. В этой связи интересно обратить внимание на то, что ориентация самых протяжённых рядов камней-балбалов во второй половине ряда порой отклоняется от первоначальной; конечно, это может быть следствием простого накопления отклонений, но иногда встречается и резкий «перелом» направления. Не связано ли это с тем, что точка восхода солнца в течение года смещается? — ведь китайские летописи фиксируют связь погребальной обрядности у «варваров» с календарём.
[41] Распространение изваяний скифо-сарматского времени в Приаралье: Ольховский 2005: 261, Илл. 130; о более древних джунгарских изваяниях см.: Ковалёв 1998.
[42] При этом происходили функциональные трансформации — например, древние джунгарские изваяния стояли у погребальных сооружений (Ковалёв
(42/43)
1998: 27), внешне, судя по описаниям, похожих на поминальные оградки тюркской эпохи; не исключено, что раннесредневековые кочевники обращали внимание не только на древние статуарные образцы, но и на их контекст (хотя сопоставимость сооружений тут весьма условна, ведь первоначальный их облик, в отличие от изваяний, не всегда очевиден). Интересно заметить, что аналогичные по сути процессы имели место и на северной окраине древнетюркского мира. Становление новой обрядности енисейских кыргызов в пору создания ими собственного государства, спровоцированного сирским эльтеберством 630-х — 640-х гг., сопровождалось выработкой нового типа поминальных оград, внешне воспроизводящих местные древние образцы — тагарские курганы скифского времени. Близость облика оград кыргызских чаатасов и памятников минусинской курганной (тагарской) культуры комментировал ещё С.В. Киселёв: «сходство во внешнем оформлении курганов до известной степени может быть результатом подражания более древним памятникам, всегда бывшим перед глазами и поэтому служившим невольными образцами» (1949: 318), а то, что ограды ранних чаатасов служили не только надмогильными сооружениями, но и поминами, функционально соответствующими древнетюркским оградкам, было установлено раскопками на Арбанском чаатасе (Азбелев 1990; 2008б: 57).
[43] Нельзя исключить и переиспользование тюрками изваяний скифского времени; зафиксированы и случаи употребления вместо изваяний (или хотя бы в качестве материала для них) оленных камней (Рис. 5, 4).
наверх
|