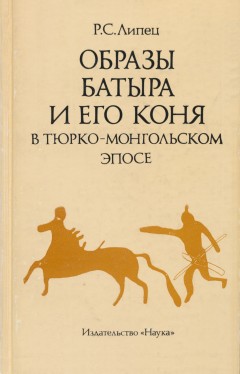 Р.С. Липец
Р.С. Липец
Образы батыра и его коня в тюрко-монгольском эпосе.
// М.: 1984. 264 с.
Часть II. Конь.
Хвала коню.
Наиболее своеобразный и характерный жанр фольклора кочевников — хвала коню, известная и как самостоятельные произведения, и как включения в их эпос. Описание красоты и достоинств боевого коня, влагаемое в уста героя в форме традиционной «хвалы», имеет вообще широкое распространение в эпической поэзии тюрко- и монголоязычных народов. Нередко «хвала» дана как обращение к самому коню, способному, по эпическим нормам, не только понимать человеческую речь, но и самому беседовать со своим всадником на человеческом языке.
Содержание «хвалы» суммирует всё, что имело значение для всадника: бег коня, его экстерьер, темперамент. Эти «хвалы» коню по сути представляют собой такую же песню-славу, как и батыру. Может быть, и то и другое — следы культовых песен, гимнической поэзии?
(228/229)
«Хвалы» коню как самостоятельные произведения известны с глубокой древности, а сохраняются и поныне в живом бытовании: например, на конных состязаниях в Монголии, когда поют хвалу коню — победителю на скачках, или в недавнем прошлом — как своего рода величальная песнь лучшему коню — сокровищу его хозяина (гостя), которому также поют сначала такую песнь.
Жанр «хвалы» коню имеет глубокую традицию. А.П. Окладников приводит свидетельство о проникновении таких слав коням у кочевников в китайские древние письменные памятники: «...страна гулиганей... производила „превосходных лошадей, которые... сильны, рослы; в день могут пробегать по нескольку сот ли”». Император Тайцун принял таких лошадей, присланных ему, был восхищён ими «и всех вместе назвал „десять скакунов”, каждому скакуну в отдельности дал славное имя и затем посвятил им особую поэму» (Окладников, 317-318).
Свидетельством такого восхваления коней, отражённого в эпосе, служит запись XV в. в «Книге моего деда Коркута» кто «славил своего коня, кто — свой меч, кто славил своё искусство в натягивании лука и метании стрел» (Коркут, 84).
Англичанин Александр Борнс, посетивший в тридцатых годах прошлого века ряд стран Востока, оставил не только сообщение о пении «хвал» коням, но даже запись эпического текста о коне Каругли: «Они (туркмены. — Р.Л.) очень любят своих лошадей и охотно поют песни в честь этих животных. По вечерам я часто вслушивался в панегирики лошади Чапрасли и лошади Каругли: это два предмета нескончаемого прославления». Не случайно Борис впал в ошибку, решив, что «слово Каругли означает и воина и лошадь» (Борнс, 84). Едва ли «в представлении туркмен в первой половине XIX в. легендарный конь и его хозяин слились нераздельно в едином образе» (Каррыев, 129), как считает современный исследователь, комментируя этот текст Борнса. Просто Борнс недостаточно владел, видимо, туркменским языком. Тем более что дальше Борнс, пишет, что «Каругли» «собственно же относится к известной конской породе, которая теперь, как уверяют, совершенно вывелась» (Борис, 84). Речь идёт, видимо, об ахалтекинской породе. Он отличает эту породу от другой, как можно предполагать. «Слово чапрасли, хотя собственно и означает только проворного, однако же, применяется также к одной славной лошади, прославившейся быстротою». Текст же песни, записанной Борисом, звучит так:
(229/230)
Я берегу арабского коня на день битвы.
В этот день, я живу под его тенью,
С ним я убиваю в схватке героя.
Береги арабского коня, вооружайся железным щитом, Каругли!
В день битвы я натягиваю железный лук,
Сижу прямо на коне, ничто меня не сбросит с него.
Я один сын у родителей, нет у меня ни брата, ни сестры.
Береги арабского коня, вооружайся железным щитом, Каругли!
(Там же, 84-85)
Призыв беречь коня повторяется в песне как рефрен.
От конца XIX в. дошла история одной записи «хвалы» коню в казахских степях. Возможно, Муса Чорманов, собиравший шежире для Чокана Валиханова и передавший их Г.Н. Потанину, снабдил последнего письмом к Имантаю Сатпаеву, прося организовать для него запись фольклорных произведений об Аблае от Куреке (Курманбая), внука Бухар-жырау. В итоге была записана старинная песня Бухар-жырау, современника Аблая, в которой содержалось и «восхваление его коня» (Потанин, 1972, 17). «Описание коня Аблая в песне Бухар-жырау... — как пишут издатели текста, — составлено из обычных для песен и сказаний о казахских батырах эпических „общих мест”» (Там же, 358). В восхвалении коня Аблая применён приём погодного перечисления жизненных вех и подвигов коня, как и при повествовании о батыре (см. выше), в чём выступает тот же принцип парности их художественного описания, единство поэтических приёмов. О верховом коне поётся, как он сосал свою мать однолеткой, двухлеткой, трёхлеткой:
Четырёхлеткой выезжан был,
Шёлковый аркан волочил.
В пять лет, чтобы окрепла спина,
Пустили его на пять кобылиц,
В шесть лет прорезались у него ноздри, как у [скакуна].
В семь [он] догонял кулана,
В восемь был прозван Серке-саном,
В девять полностью созрел,
В десять как стрела-змея бросался.
Дальше идёт подробное восхваление экстерьера этого коня, который «выхолен, бока втянуты» (поджарость, сухость конституции аргамаков) его глаз, ушей, губ, клыков, чёлки, копыт (Потанин, 1972, 280). О том, каким был богатырский конь в различные годы от рождения до возмужания, упоминается также в описаниях Тайбурыла из эпоса «Кобланды-батыр», Байчибара в «Алпамысе» и т.д. Эпическими клише являются также уподобления губ коня чаше, ушей камышу, величины копыт «месту, занимаемому очагом» (Там же, 353).
(230/231)
Ю.М. Соколов называет эпос калмыков «эпосом прославленных всадников» и находит, что «ни один эпос не уделил столько любовного внимания обрисовке коня, ухода за ним, его повадок, красоты, его качеств», и приводит как пример описание коня Хонгора (Соколов, 91).
По поводу одной локайской (узбекской) пословицы Б.X. Кармышева, приведя её («Если имеешь один день жизни — был бы конь; если два дня жизни — была бы жена»), пишет: «Локайцы настолько любят и идеализируют лошадей, что даже теперь иногда говорят, что для их отцов и дедов конь был будто бы дороже жены и детей. О выдающихся качествах своих коней локайцы рассказывают много, с увлечением и нередко преувеличениями (поэтическими — Р.Л.). Рассказы о выдающихся конях передаются от поколения к поколению» (Кармышева, 78).
Изречения, введённые в эпический текст, очень характерны. В башкирском кубаире, например: «В сердце храброго джигита оседланный снаряжённый конь живёт» (Киреев, 265). В алтайском эпосе аналогично речение:
В сердце женщины живёт одетый в броню сверкающий мужчина;
В сердце мужчины живёт осёдланный огненный конь.
(Когутэй, 26)
И в эпосе боевой верховой конь, стоивший целого состояния, надёжный спутник и помощник всадника, изображён необычайно эмоционально, даже более эмоционально, чем красавицы, сияние которых превращает ночь в день. Конь Кер-оглы «летает быстрее птицы, разговаривает глазами, а на поле брани заменяет тысячи воинов» (Каррыев, 178).
Среди украшающих эпитетов, устойчивых сравнений и других поэтических образов, при помощи которых воспевается конь, всё же намечаются какие-то ориентиры.
Конь любовно обрисован буквально от кончиков ушей («как ножницы»), которыми он раздвигает облака, до его гладких чёрных копыт. Грудь, спина, холка, ноги, хвост и грива, глаза — всё это с точными и образными эпитетами и сравнениями упоминается не только в «хвалах» коню, представляющих эпические «общие места», но и попутно, по любому случаю. Из всего их комплекса вырисовывается знакомый облик среднеазиатского «небесного» коня, сухого и благородного сложения, с мастью золотистых оттенков, стройного, резвого и быстроногого, с большими живыми глазами, темпераментного, с мгновенными реакциями. Конечно, к «хвалам» можно отнести и описание лёгкого или разрушительного бега коня, его полётов в небо и пр. А.Н. Киреев, приводя образ-
(231/232)
цы «хвал» коням, подчеркивает, что вообще-то башкирские сказители — ирпэкии и кубаиреиты — не щедры на подобные описания (Киреев, 93):
Красой долины, ива бывает,
Красой жеребца грива бывает.
Красой батыра слава бывает.
В сердце храброго джигита
Осёдланный снаряжённый конь живёт,
У джигита-сэсэна
В груди мудрое слово лежит.
(Киреев, 265)
Щедро и свежо дана цепь сравнений в каракалпакском эпосе: конь мчится, вытянувшись струной; цокот копыт — звук зерна, лопающегося на огне; путь точно «наматывается... на незримое веретено» (Сорок девушек, 363); искры из-под копыт летят «выше звёзд, поднимаясь четырьмя столбами огня»; дневной путь для коня один шаг (Там же, 71). Крылатый конь закрывает собой небосклон «размахом соколиных крыл», словно исполинский кречет (Кырк кыз, 49).
В калмыцком эпосе хвала коню и сбруе содержит безудержную гиперболизацию. Сам конь описан с большим натурализмом, который непосредственная эмоциональность делает оправданным, приемлемым. Уже снаряжённый, «приподнял он свой величаво-прекрасный хвост, провёл по обе стороны крупа» (Джангариада, 184). Любование конём таково, что в том же стиле изображён даже такой момент: «Поднял конь свой прекрасно-могучий хвост, сбросил огромный помёт, словно вешнюю ноздреватую льдину» (Джангариада, 175).
А.С. Орлов обратил внимание на то, что наряду с высокохудожественным и поэтическим описанием здорового, свежего коня с неменьшей образностью изображён и конь, терпящий по тем или иным причинам бедствие и изнемогший: «Примерами смешения реализма, поэтического преувеличения и сказочности могут служить описания Тарлана („иноходца, родившегося тулпаром”. — Р.Л.) то во всей его красе, то в крайнем изнеможении» (Орлов, 85). Восхваление коня и батыра выдержаны в одном стиле, и это не случайно: конь и всадник — слитная пара друзей-соратников. А.С. Орлов напоминает казахскую пословицу: «Недаром старики говорят, что у батыра и у его коня душа одна» (Орлов, 48). О Коблан-батыре (Кобланды) и его коне примерно то же говорится и в самом эпическом тексте (Орлов, 45).
Любопытно, что в эпос проникло и описание самого обычая славословия коню. В тувинском эпосе, когда враг-захватчик отказался пить араку (поднесённую ему с коварным
(232/233)
умыслом), «Алдын-дангына взяла обеими руками чашу с аракой и запела. Своей песней она прославляла стойбище Кара-Сюме, которым владел Кара-Моос, воспевала достоинства его чёрного коня. Возгордился Амырга Кара-Моос, схватил чашу с аракой и выпил. Алдын-дангына налила ему самой крепкой араки — он и ту выпил до капли» (Гребнев, 1960а, 165).
В другом тексте гость также отказывается пить «неприятную воду» — отравленную араку, но хозяйка так же стала петь с чашей в руках, «славя красоту и богатство Ак-Хема, превознося достоинства коня Туман-Кыскыла»; старик выпил и умер (Там же, 149). Как видно из приведённых текстов, «хвалы» коню имеют очень важное значение.
Глаза коня сравниваются с огнём, звёздами, светильниками, драгоценными камнями, золотыми рыбками и пр. В алтайском эпосе:
Блеск двух глаз его, подобных утренней звезде,
До расстояния далёких земель доходит.
(Суразаков, 1961, 153)
В огузском эпосе глаза — «два ночных светильника» (Коркут, 41). В каракалпакском эпосе — в глазах «два рубина, два огня» или глаза «изумрудные» (Сорок девушек, 20, 71), в монгольском глаза — «огненно-золотые» и блестят, подобно «золотой рыбке санзай» («Монголия»). В привычном для эпоса «зверином» стиле башкирские сказители сравнивают глаза коня то с волчьими, то с орлиными (Киреев, 93, 264). Величина глаз (как и ноздрей и копыт) определяется в казахском эпосе сравнением с чашей (Потанин, 1972, 280). Отмечается и их выразительность: коль «разговаривает глазами» (Каррыев, 178).
Особо выделяются сказителями уши коня. В алтайском эпосе «уши бархатно-вороного коня облака бороздят», так высок конь (см.: Когутэй, 119). Ушами конь раздвигает «на небе белые и чёрные облака» и в тувинском эпосе (Бокту-Кириш, 20). Уши-ножницы упоминаются или отдельно (в каракалпакском и башкирском эпосах), или вместо с облаками в алтайском эпосе:
Двумя одинаковыми ушами-ножницами (прядая),
На синем небе белые тучи
Туда и сюда гоняет.
Четыре копыта подкованы,
Голова и спина блестят украшениями.
(Суразаков, 1961, 92)
(233/234)
В казахском эпосе часто встречается сравнение ушей с листом камыша: «С ушами, как срезанный камыш»; «Ухо — как верхний лист» озёрного камыша (Орлов, 145, 85).
Уши уподоблены птицам: в якутском — двум кукушкам (Худяков, 203), в огузском — двум птицам, «двум братьям» (Коркут, 41). Любопытно, что в якутской загадке подразумевается то же сравнение — настолько оно привычно: «Две пташки приподнимаются лететь, да ни одна из них не летит. Уши коня» (Ястремский, 157).
Много также эпических сравнений ушей коня с разными предметами в башкирском эпосе: «уши шилом навостривший» (Киреев, 263-264); в ойратском — уши «очиры колокольчиков» (Владимирцов, 1923, 61), свечи. В калмыцком эпосе уши коня подобны резным кувшинным ручкам (Джангар, 8). Наконец, упомянута и чуткость ушей, например в монгольских хвалебных песнях (Скородумова, 102; Монголия, 24).
Большое место в восхвалении коня занимают хвост и грива. Наиболее грандиозные, даже космические образы, принадлежат алтайскому эпосу:
Волосы, хвоста, как молнии, сверкают,
Грива, как пламя, горит.
Девяносто две косички хвоста
Ниже щёток выросли,
Семьдесят косичек гривы.
Ниже колен выросли.
На стороне, с которой (на него) садиться,
Луноподобное тавро имеет,
На стороне ударов плети
Солнцеподобное тавро имеет.
(Суразаков, 1961, 91-92)
Хвост — «как град», от гривы — сияние (Там же, 156).
Впрочем, не намного отстаёт в масштабности и поэтика в эпосе других народов; так, в каракалпакском эпосе волнистый хвост коня — словно туча, грива — «ночь» (Сорок девушек, 71). В ойратском тексте конь «белые тучки небесные бьёт своей прекрасной пушистой чёлкой» (Владимирцов, 1923, 62). В якутском эпосе дан впечатляющий северный образ коня, с «гривой, что вьюга, с хвостом, что вихрь» (Ястремский, 110).
В башкирском эпосе конский волос ассоциируется с девичьими расчёсанными волосами (Киреев, 93). Подчёркиваются мягкость и пышность гривы: «шёлку подобна» (Коркут, 41; ср.: Орлов, 85).
Однако густота и длина гривы и хвоста невысоко котируются в казахских фольклорных текстах:
(234/235)
Говоря: пушисты хвост и грива,
Не берите непородистого жеребца —
В дождливый день останетесь под яром.
(Потанин, 1972, 286)
Дело в том, что пышность гривы и хвоста, связанные с сильной оброслостью лошади, является одним из признаков местной казахстанской породы лошадей — джабе, массивной и низкорослой, в отличие от высокоценной чистокровной среднеазиатской. Для аргамаков с очень слабой оброслостью характерны недлинные и негустые грива и хвост. Порода ахалтекинцев в суровых условиях казахстанских степей отчасти поэтому и не приживалась, так как это «оазисная лошадь», по определению Ю.Н. Барминцова (Барминцов, 11).
В то же время пышный или «куцый» хвост коня вообще как бы подсказывает суть ситуации. Так, в казахском эпосе жена Саина видит вещий сон о гибели мужа в набеге: у его коня, чей пушистый хвост был в рост человека, он стал куцым.
Хвалебное описание копыт перекликается по сути с гиперболическим изображением ископыти коня. В каракалпакском эпосе: «искры из-под копыт коня» — «четыре столба огня» выше звёзд (Сорок девушек, 71). Часто отмечается величина копыт: в казахском эпосе говорится о «ширококопытном коне» — копыто «величиною (охвата) целого костра» (Орлов, 85, 145) и т.п. У изнемогшего коня копыта, бывшие больше горшка, стали «с напёрсток» (Там же, 86).
Упомянуты в «хвале» и зубы коня. Коренные зубы — «как дикий чеснок» (Там же, 145) или «яшмовые» (Владимирцов, 1923, 61).
Конь в эпосе поражает своими размерами: он «в 10 вёрст длиною и в переезд шириною» (Худяков, 110), грудь его — «как долина, выходящая от эдиля, круп — как каменная крепость, тазовая кость — наковальня» (Орлов, 86).
Восхваляется в эпосе, конечно, и выносливость коня. Конь должен отличаться знанием путей, быть опытным и привезти всадника в любую дальнюю страну. Такова характеристика, например, прославленного Пламенного Рыжки у Джангара, Гирата у Кер-оглы. В алтайском эпосе говорится о коне:
Тропинки семидесяти гор он знает,
Переезды семидесяти долин ему знакомы.
(Суразаков, 1961, 92)
Конь не только знает дороги, но и не устаёт, как бы длинны и трудны они ни были; это конь
(235/236)
В скачке испытанный,
С двумя сердцами рождённый.
(Киреев, 93)
В калмыцком эпосе говорится о выносливом коне: «Это из таких коней, которые перевалят четыре горы — не вспотеют, перейдут вброд четыре моря — не истомятся» (Джангариада, 194) (см. выше ойратский текст о неутомимом коне, на котором можно легко достичь далёкой страны: Владимирцов, 61).
Для эпических «хвал» коню и батыру типична та парность описаний и приёмов параллелизма, о которой уже говорилось. В якутском эпосе дано замысловатое и фантастическое описание небесной лошади, определённой тангаром (тенгрием) герою Хан-Джаргыстаю; если тот сумеет её объездить — «так будет ему парой». У этой лошади «на лбу... (видно) девять серебряных кружков... щёки её блещут в семи местах», она является на землю со всем снаряжением «для мужчины» (воина?): с «природным седлом и уздою», «с шумной ездой, с бедовыми ногами, со скорым ходом и с непрерывающимся дыханием». Точно так же предназначенный ей всадник Хан-Джаргыстай родился «со звездой (Чолбон) на лбу, месяцем на затылке, с солнцем на груди, с бессмертною жизнью, с непрерывающимся дыханием», но ему пришлось всё же выдержать с конём длительное единоборство при объездке. И здесь упор на парность образов всадника и коня и по содержанию (равенство сил при единоборстве, выносливость — «непрерывающееся дыхание»), и по художественному оформлению (одинаковые золотые и серебряные — сакральные, видимо, — отличия и отметины) (Худяков, 204, 214).
Та же парность — в одинаковом восхвалении батыра и коня в алтайском эпосе:
Пусть слава твоего коня
За пределы Алтая перейдёт,
Пусть твоя слава героя
Всю землю покроет.
(Когутэй, 117)
Одинаково сравнение коня, распластавшегося в беге или вытянувшегося у коновязи, с ремнём и пр., как и стройного батыра, раскинувшегося на ночлеге в степи (Баскаков, 108).
Для части песен — «хвал» коню характерно обращение к самому коню, иными словами, их можно соотнести со всеми монологами и диалогами, где подразумевается способность коня понимать человеческую речь и самому пользоваться ею.
«Хвала» в форме обращения к конго зафиксирована ещё в записи XV в. огузского эпоса «Книга моего деда Коркута».
(236/237)
Бамси Бейрек так обращается к своему коню, который должен помочь ему бежать из плена: «Бейрек начал его славить: „Открытому ристалищу подобно твоё чело; двум ночным светильникам подобны твои глаза; шёлку подобна твоя грива; двум птицам, двум братьям подобны твои уши; несёт воина к цели его стремлений твоя спина. Не буду звать тебя конём, буду звать братом, ты мне лучше брата. Мне предстоит дело; буду звать тебя товарищем; ты мне лучше товарища”. Конь высоко держал голову, поднял одно ухо, прибежал навстречу Бейреку; Бейрек обнял шею коня, поцеловал его в оба глаза, вскочил на него и сел» (Коркут, 41). Обычны «хвалы» — обращения к коню и в традиционном казахском эпосе. Так, в записи Г.Н. Потанина всадник обращается к коню: «О мой гнедой конь!.. Грива и хвост твои — мои крылья, четыре ноги твои — моя сталь» (Потанин, 1972, 87).
Элементы хвалы, обращённой к самому коню, введены в длинные диалоги с конём Кобланды-батыра:
Пара крыльев под мышками [у тебя],
Сел верхом доверился я тебе.
Хвост густой [у тебя], грива мягка,
Слушай мои слова:
Золото, серебро — жёсткая грива твоя,
Чистое золото — голос твой.
Шерсть, покрывающая тебя, —
Это золото и серебро.
...Среди коней ты — тулпар,
Среди джигитов сокол — я,
Гривастые и хвостатые скакуны,
Знаю, не обгонят тебя.
Дальше Кобланды просит коня напрячь все силы, не отставая от птиц, так как он ведь может путь в сорок дней проскакать в один миг, и т.п. (Кобланды, 262-263). (И в этом тексте — парность описания всадника и коня.)
Хвалы коню в казахском эпосе вообще очень разнообразны и богаты, как и весь развитой художественный стиль этого эпоса. Чрезвычайно подробно описана красота Тайбурыла, но, кроме того, у него «скок» и «крик» голодного шакала, он кусает придорожный валун (Орлов, 48). Таков же конь Тарлан, но, выполнив немыслимые требования своего всадника, после многодневного боя с семью тысячами врагов он изнемог и дошёл до жалкого состояния (Там же, 86). В «Манасе» аналогично превращение Саралы из цветущего коня в совершенно захудалого; эпизод этот тоже дан очень пространно и эмоционально (похоже даже на плач).
Своеобразные афористические речения, характерные для казахского фольклора, как бы перекликаются с эпическими
(237/238)
высказываниями о коне, проясняют и дополняют их, в том числе и при сопоставлении батыра и коня (та же парность образов).
Чем превосходит конь другого коня?
— Одним лишь шагом.
...Чем превосходит мужчина мужчину?
— Искусно сказаным словом.
(Диваев, 122-123)
Одический жанр — сол (цол), магтал — в применении к восхвалению коня — победителя на скачках, как уже упоминалось, хорошо сохранился в живом бытовании в Монголии, записаны и тексты этого песнопения, и описания этого обновлённого обряда (Кривель, 1982; Рифтин, 1982; Скородумова, 1956). Однако и в современных текстах используется традиционная поэтика и система образов. Таковы, например, два текста «Жеребёнок с Керулена» и «Победителю на скачках» (в переводе Л.Г. Скородумовой). В одном из текстов конь — «на удивление всему свету», подобен «маралу хангайских гор», не уступает десяткам тысяч скакунов; он стал предводителем праздника всего народа. «Ты мчишься, — говорят ему, — закусив удила, сверкая четырьмя клыками, вытянув прекрасную шею, развевая по ветру пышную гриву, размахивая хвостом, сверкая массивным крупом... Мелькают твои быстрые ноги» (Скородумова, 102). В тексте, опубликованном в русском переводе в журнале «Монголия», о коне повествуется в третьем лице (Монголия, 24). Богаты традиционной образностью и тексты, записанные Б.Л. Рифтиным во время совместных советско-монгольских экспедиций в Монголию в 1974-1978 гг., а также взятые им из литературных и рукописных источников. Исследования жанра и образцы текстов опубликованы Б.Л. Рифтиным в специальной статье «Из наблюдений над мастерством восточномонгольских сказителей. (Магтал коню и всаднику)».
По-видимому, к поэтической образности в эпосе коневодческих народов надо отнести в какой-то степени и определение меры длины, высоты, объёма применительно к частям тела коня. Если сопоставить эпос разных народов, то везде основным будет сравнение с конской головой, реже с конским глазом, ногой. Обычно определение величины слитков драгоценных металлов «с конскую голову», «с голову коня». Так, в тувинском эпосе подарок-залог при обручении состоит из «золота с конскую голову и серебра с волчью голову» (Гребнев, 1960б, 22). В каракалпакском эпосе слиток золота больше конской головы обещает якобы Арыслан пастуху, чтобы тот проводил его к Гулаим (Сорок девушек, 48). В ал-
(238/239)
тайском эпосе фигурирует драгоценность «эрдине» «с конскую голову» (Аносский сборник, 279).
В разных эпосах с головой коня сравнивается сердце батыра или воинственной девы; так велико сердце силача в казахском эпосе (Кобланды, 404), богатырки Сарбиназ в каракалпакском (Сорок девушек, 12). С конскую голову целебная пена на озере (Кобланды, 404). В якутском эпосе у исполина даже «огниво, как голова большой лошади; чёрный, большой кремень... как печень кобылы» (Худяков, 138). То же определение может даваться и в отношении весомости нематериальных понятий. Так, силой коня измеряется значимость имени — славы героя: «И дюжему коню не осилить тяжёлое, веское имя твоё называючи, я прибыл!» (Ястремский, 71).
Реже встречаются другие сравнения с конским телом. В каракалпакском эпосе алмаз больше конского глаза в девять раз (Сорок девушек, 130). В якутском эпосе нос малолетка — с голень коня или с его переднюю ногу (Ястремский, 42, 80); колотушка шаманского бубна — «как правое плечо трёхлетка» или «с правую переднюю ногу четырёхтравого (четырёхлетки.— Р.Л.) коня» (Там же, 71, 87). С глазами коня сравнивают глаза человека (Там же, 143), прозрачность предмета: судьба человека уложена у верховного божества в шкатулку, «прозрачную, как зрачок дивного коня» (Пухов, 115). А.П. Окладников приводит сравнение Аар-Топона с трёхгодовалым жеребёнком, который стоит, «вытянувши стан» (Окладников, 405).
Высоту определяют ростом коня. В якутском эпосе глубина снежного покрова — «по горло быстрого коня, задравшего голову, по грудь молодого коня» (Ястремский, 125). В алтайском эпосе, как и в действительности, в конных соревнованиях измеряют расстояние, разделяющее лошадей, длиной конского тела: «...на расстоянии длины одного коня она оказалась» (Суразаков, 1961, 112).
Мерилом служит и продолжительность бега коня в якутском эпосе: «Такие сени, что сильный конь задохся бы, по ним пробегая» (Ястремский, 100; ср. также 15).
Гиперболична и цена самого коня:
Стоила тысячу тысяч юрт
Рыжая кобыла его.
(Джангар, 27)
Образ коня, его бег — неисчерпаемый источник поэтических сравнений. Окружающий мир — космос, пейзаж и пр. — дан через сравнение с конём. Так, в якутских
(239/240)
олонхо край неба и край земли сходятся и расходятся, при этом они «стукаются друг о друга, как челюсти разъярённого жеребца» (Окладников, 273); там же само небо уподоблено коню, без устали движущемуся без поводьев и удил (Эргис, 136). Глаза страшилища — «как кручёные железные кольца у лошадиных удил» (Худяков, 139). Ряд образов в фольклоре тюрко-монгольских народов связан с конским снаряжением. О победе над врагом иносказательно говорится, что противнику удалось «натянуть его поводья, схватиться за его удила» (Нюргун, 289). Полнота власти могучего хана Аблая в обращении к нему знаменитого певца определена тем, что в его руках «повод всех казахских родов» (Потанин, 1972, 281). В каракалпакском эпосе грузное топанье гневного батыра и уклонение врага от поединка из-за страха, который его «стреножил», даны через образ коня в путах (Сорок девушек, 147, 361).
Сравнение воина с конём обычно. Воины в бою — дерущиеся кони: они визжат, «как трёхлетний дикий конь» (Аносский сборник, 173), и даже кусаются, как два жеребца (Сорок девушек, 231). Герой — «тулпар в многотысячном табуне» (Орлов, 98). Ржанию коня уподоблен не только громкий голос или смех батыра, но и его громкая слава:
Моё имя на всех путях-дорогах,
По всем горным перевалам
Громогласно ржёт,
Как матёрый жеребец.
(Нюргун, 109)
Образ девушки в эпосе также соотнесён с образом коня. В казахском тексте Назым «заходит в юрту, качаясь как светло-серый иноходец» (Орлов, 118), а влюблённые резвятся, как жеребята (Там же, 142). Несговорчивая невеста сравнивается со строптивой кобылицей. Иносказание сватовства — поиски потерявшегося коня (Аносский сборник, 100). Вдова говорит о себе: «Я теперь — конь без хозяина» (Суразаков, 1961, 32). Обилие параллелизмов наблюдается и в композиционных приёмах: таково описание по годам возмужания и подвигов героя (о котором уже упоминалось), известное ещё по орхонским надписям на стелах; так же изложена жизнь Тимура в средневековой его «автобиографии» (Автобиография Тимура); тот же приём применён и в казахском восхвалении хана Аблая в отношении его коня.
Парность образов всадника и коня, как уже отмечалось, вырисовывается и в одновременности их рождения, и в их молочном братстве (их вскармливает одна кобылица), и в
(240/241)
одновременности брака батыра с иноземкой и случки его коня с кобылицей в чужом табуне, и в том, что мужское потомство обоих в дальнейшем также образует пару. В алтайском эпосе характерен мотив, когда отец батыра передаёт ему свою силу через дуновение, а конь отца так же коню сына (Аносский сборник, 171). Афористические речения построены тоже по принципу параллелизма, например о предназначенности гибели всадника и его коня на поле брани.
Всё это показывает широту и распространённость проникновения образа коня в древний эпос тюрко-монгольских, кочевых в прошлом народов, а также его нерасторжимость с образом батыра.
|