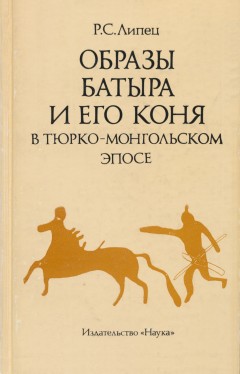 Р.С. Липец
Р.С. Липец
Образы батыра и его коня в тюрко-монгольском эпосе.
// М.: 1984. 264 с.
Часть II. Конь.
Табуны.
Главное богатство кочевников — их скот «четырёх видов» (лошади, овцы, верблюды, крупный рогатый скот) — воспето, можно сказать, в эпосе разных тюрко-монгольских на-
(156/157)
родов. Но любовь у них вызывали кони — «жемчужный скот» (Дьяконова, 1975, 144), наиболее ценная и престижная часть стад. Верблюды имели подсобное значение, и разводили их далеко не везде (на севере ареала их не знали). В якутских древних молитвенных заклинаниях божеств, покровителей скота, составные части стад названы поэтически образно: «Направь гладкогривых и длиннорогих собери в стада!» (Ястремский, 203); или: «С торчащей чёлкой собери в стада, а гладкогривых направь!» (Там же, 204). В якутском же эпосе сами тенгрии, спуская детей — Нюргуна и его сестру — на землю, посадили их на облако и загнали на него небесных коней и стадо рогатого скота (Нюргун, 95).
Табуны коней принадлежали в основном представителям социальной верхушки и были чрезвычайно многочисленны. Уже в орхоно-енисейских надписях численность коней в табунах определяется тысячами. С.В. Киселёв в этом аспекте напоминает о надписи на стеле из Тувы, где говорится от имени умершего, сожалеющего, что он «не мог остаться» среди своих шести тысяч коней; на стеле в Койбальской степи «у бега Уры, которому она посвящена, „на земле снабжённые тамгой (т.е. собственные. — С.К.) табуны лошадей были
бесчисленны”» (Киселёв, 572-573). Завет беречь своих коней сохранился и в традиционном казахском фольклоре:
Мой народ, не разлучайся со своим косяком,
Разлучишься с косяком —
Не оторвёшь рук от своих бёдер.
Тут же дано примечание: «Подбочениваться на бёдра — у казахов нехорошая примета, ибо это проделывают только причитающие по мужу вдовы» (Диваев, 104).
От XVI в. сохранилось письменное свидетельство Мирзы Мухаммад Хайдара, представляющее своего рода «хвалу» коням. При посещении могулистанским ханом (Султан Са’ид ханом), казахского хана Касима, тот обратился к гостю со словами: «Мы — жители степи; у нас нет ни редких, ни дорогих вещей, ни товаров, главное наше богатство состоит в лошадях; мясо и кожа их служат нам лучшею пищею и одеждою, а приятнейший напиток для нас — молоко их и то, что из него приготовляется; в земле нашей нет ни садов, ни зданий; место наших развлечений — пастбища скота и табуны коней, и мы ходим к табунам любоваться зрелищем коней». Когда они приехали к табунам и осмотрели весь скот и лошадей, Касим сказал: «„У меня есть два коня, которые одни стоят всего табуна”... Касим, когда привели лошадей, обратился к хану и сказал: „Людям степей без коня и жизнь
(157/158)
не в жизнь; эти два коня для меня самые надёжные и достойные. Обоих подарить не могу; [но] так как вы гость дорогой, выберете себе любого... только другого оставьте мне”. Касим хан описал [достоинства] обоих коней... [Султан-Са’ид-хан] взял себе одного. И этого коня звали Оглан-Торук; действительно, подобного коня мне не случалось видеть никогда. [Касим-хан] отобрал ещё из табуна несколько коней для хана» (Материалы по истории казахских ханств, 225-226).
В эпосе табуны тоже принадлежат в основном ханам и баям, но в их неисчислимости сказалась, конечно, мечта о владении такими табунами всех кочевников, а не только действительно владевших огромными табунами.
В киргизском «Манасе» среди богатств Кокетея — девяносто тысяч коней (Манас, 45), как и в казахском эпосе у Карабая (Потанин, 1972, 245); в якутском — «восемьдесят косяков кобыл с жеребцами, девяносто хлевов коров» (Ястремский, 99). В «Гесериаде» речь идёт о «стотысячном табуне» (Гесериада, 141).
Однако чаще всего в эпосе гиперболы ещё более смелые. Стада неисчислимы буквально: богатство скотом отдельных ханов так велико, что «счёт им (лошадям и овцам.— Р.Л.) потерян двадцать лет назад», их считают не на головы, а по числу «тугаев» — мест выпаса в камышовых и кустарниковых зарослях; по длине дороги в несколько десятков километров, по которой растягиваются эти табуны и стада при перекочёвках; табун гонят мимо владельца месяц или три месяца (Нюргун, 37), или собирают табун с девяноста пастбищ (Алпамыш, 72).
«Общее место» в эпосе разных народов: скот не вмещается в стране; в тувинском эпосе, например: «Табун твоих каурых коней в степи не вмещается» (Гребнев, 1960а, 21). Сводку художественных образов эпоса, рисующих обилие табунов и скота, дал в своих работах Л.В. Гребнев как пример эпической гиперболизации: «Нет нужды называть тысячи или десятки тысяч голов скота, когда имеется такой образ: „Алдай-Буучу погнал табун на сына... Три месяца — девяносто суток — двигались кони вереницей мимо хозяев”» (Там же, 15).
Люди издали принимают пасущиеся табуны и стада (соответственно масти) за песок пустыни, серые камни и т.д. В сказании «Кангывай Мерген» герой не может разобраться; то ли вдали горно-таёжный лес, то ли «пестрые табуны»; то ли верблюды, то ли трава и сено — «так все было жёлто»; каменные ли россыпи или «тысяча миллионов (сая-туме) коров» и т.д. (Гребнев, 1960б, 70).
(158/159)
В якутском эпосе фантазия особенно безудержна: табуны коней и стада рогатого скота заполнили все пространство до Камчатки и Алеутских островов; ими питаются жители, но они не убывают (Нюргун, 26); там же дано сравнение табунов «белошёрстных лошадей» со снежными сугробами, а стад коров — с шугой: «масса ледяной шуги (идёт)» (Там же, 163) (северные впечатления!). А в пространном описании благословенной эпической страны на первом месте изобилие скота: «Однокопытные не спотыкаются, не расходятся раздельнокопытные. Они трутся вплотную голыми боками, задевают друг друга мохнатыми коленями. Стадами ходят никогда не знавшие оброти» (жеребята по склонам, телята по лугам) (Там же, 138).
Приведя такого рода описания табунов в якутских олонхо, А.П. Окладников справедливо замечает: «С таким же пафосом страстного скотовода, как и якутские олонхосуты, рисует монгольский рапсод это невиданное изобилие конного скота» (Окладников, 281). (Образцы ойратских описаний см.: Владимирцов, 1923, 56, 104, 232.)
В эпосе разных народов, в мирной концовке наступившее благоденствие всегда сопровождается изображением ландшафта, оживлённого неисчислимыми табунами и стадами. Это описание отработано в художественном отношении так устойчиво в разных эпосах, что может считаться «общим местом». О башкирском герое говорится, что он
На землю семи родов
Счастье и довольство принесёт,
Широко раскинувшееся пастбище
Косяками коней наполнит.
(Киреев, 97)
В алтайском эпосе:
Дыханье коня, как белый туман, —
Многочислен разномастный скот,
Касаясь [друг друга] шерстью,
Пегую гору,
...Как акация покрывая,
С топотом бродит.
(Маадай-Кара, 251)
В степное приволье, в неисчислимые табуны отпускают своих боевых коней для отдыха в концовке эпических произведений батыры после завершения труднейших походов и подвигов. Так, в ойратском эпосе Хаджир-Хара говорит своему коню, расседлав его: «Пей чистоту вод, ешь тучность трав!» (Владимирцов, 1923, 85).
(159/160)
Справиться о состоянии табунов, о травостое и обилии воды — признанная форма этикета в эпосе. В «Манасе» местный правитель страны Кокборю (соблюдая принятые приличия, очевидно) спрашивает о самом важном гонца из Таласа:
Многоводен ли щедрый Талас?
Широко ли трава разрослась?
Приумножились ли табуны?
и лишь затем — о благоденствии киргизов и их хана Манаса (Манас, 275). У киргизов служило приветствием выражение «мал-жан аманбы?» (букв.: «Скот и люди (семья) здоровы ли?» — Юдахин, 513; аналогичная формула бытовала и у казахов — Махмудов, Мусабаев, 254).
В эпосе не забывают о значении лучших пастбищ. Заставляя откочевать вместе со скотом на новые места пленённый народ чужой страны, поселяют его на бесплодных солончаках. Свой же народ, отбитый у неприятеля, заботливый предводитель устраивает по-иному: «Поставил табуны на кормовые места», где найдутся и дрова на топливо (Аносский сборник, 22).
Табуны в эпосе, по-видимому, общие у богатого феодала и у его сына. При отцовских табунах юный сын их владельца проводит много времени. Здесь постигает он искусство обращения с лошадьми, присмотра за ними, необходимое для его будущей жизни воина.
Без табунов жизнь теряет для коневодов цену. Посланец неба с Чёрного облака является за Белым юношей, чтобы отвезти его в иной мир, иными словами, умертвить: «Влезь на свою посмертную лошадь, оденься в свои похоронные одежды, покушай твоей посмертной пищи... Ну, поедем!». Но тот сопротивляется. Тогда посланец якобы топит табуны и скот Белого юноши. И тот соглашается ехать за ним (Худяков, 140).
Собственность на табуны коней и на отдельных коней закрепляется внешним признаком: тавреньем, неоднократно упоминаемым в эпосе. В калмыцком эпосе «бумбайская золотая печать — тамга» на правой ляжке коня служит приметой конницы Джангара (Джангариада, 193).
В вещем сне Алтынай в каракалпакском эпосе «чужие тавра» на «потных крупах» коней — знамение будущего порабощения страны и изнеможения, возможно, самих коней (Сорок девушек, 157).
Происхождение эпических коней из одного табуна (как всех «братьев и сестёр» коня героя, так и отдельных коней)
(160/161)
движет в повествовании развитием сюжета. То, что кони оказываются родственниками, решает иногда исход событий. Зачастую им известно, кто их мать и отец. Таким образом, кони легко могут счесться родством с другими конями, и это ведёт к неожиданным поворотам сюжета.
Следует напомнить, что устные родословные среднеазиатских чистокровных коней были действительно известны, особенно, конечно, в ханских табунах. Породистость коня определялась по табуну, в котором он родился: «Чистопородность своих лошадей иомуты определяют по табуну, из которого они происходят» (Кузьмин, 107). Имя коню давалось иногда не только по масти или приметам, но и по владельцу табуна (Щекин, 72). В якутском эпосе повествуется о родословной коня, ниспосланного небесными родственниками героя. Герою на него указывают трое «стремянных» (посланцев небесных божеств), прибывшие на «трёх молочно-белых конях»: «Небесный жеребец, Хан-Джаргыстай жеребец, был отцом его... Плотная и приземистая серая кобылица была матерью его. С бурной гривой, мятущейся чёлкой, с хвостом, что вихрь... ретивого Джабын-Тугуй, (неиспытанного) молодого коня послали они (божества)» (Ястремский, 47). В киргизском эпосе из знаменитого табуна жеребца Джоргобоза вышла кобылица — мать прославленного коня Манаса — Ак-Кулы.
Знание родословной коней в действительности делало для создателей эпоса и их слушателей естественным признание родственных отношений между конями. В эпосе о родственных отношениях менаду собой знают и сами кони. Коней — родных братьев здесь сколько угодно. Таковы жеребец Рейхан-араба и «невзрачный жеребец», выбранный конюшим (Жирмунский, Зарифов, 199). В «Кундуз и Юлдуз» Гират наследует их свойства. Гират не сможет на скачках поэтому «обогнать коня Шонияз-араба, который приходится ему старшим братом (оба они происходят от арабского жеребца, принадлежавшего Рейхану)» (Там же, 247). Старший брат — значит более взрослый, сильный и опытный конь. Младший брат говорит перед скачками о старшем брате: «Он на три поколения старше меня и много больше на нём шерсти против меня» (Гесериада, 77). В «Гесериаде» сводный брат Гесера Цзаса съезжается на поединок со своим смертельным врагом — ширайгольцем Шиманбироцзой, но тут встаёт неожиданное препятствие: их кони — «бурый крылатый конь Цзасы и белый вещий конь Шиманбироцзы» — «оказались близкими родственниками», поэтому «оба коня пятятся назад» и не слушаются хозяев (Там же, 168).
(161/162)
Наиболее тесно в эпосе связан с представлением о происхождении коней из одного табуна мотив «устрашающего дара», от которого требующий его злой хан или тесть сам отказывается потом. В тувинском эпосе хан требует от зятя привести табун гнедых диких и свирепых коней, снабжённых природным оружием. Дочь хана в ужасе и говорит об этих конях: «Они слышат топот коня на расстоянии месячного пути езды. Они чуют запах человека на расстоянии годового пути езды. На ногах у них стальные сабли. Они участвовали в трёх войнах». Табун когда-то был получен ханом как сой-белек от отца героя; тогда в нём было сто голов, теперь — тысяча. Хан-Буудай, которому поручено пригнать табун, всё же собирается ехать за ним; новобрачная отговаривает его, просит взять её и ехать в его стойбище, не выполнив поручения. Но он не соглашается. Конь Хан-Буудая подтверждает её слова, но решает бежать к табуну один, оставив дома хозяина, зная, что этот табун — его родня, так как всех их родила «великая кобылица Хан-Шилги... на северной теневой стороне Соок-Кызыл-Тайги»: «Это — дикие, свирепые кони. Но мы — братья с ними, родня. Я к ним пойду, и они меня, наверное, узнают, а ты, Хан-Буудай, оставайся дома». Хан-Шилги прибежал к табуну; «резвясь и скача от радости, он заржал: „...как вы живёте, мои старшие братья и сёстры?” Табун гнедых лошадей подошёл ближе, обнюхал коня.— „И верно, это младший наш брат!...”». И Хан-Шилги повёл табун за собой; как родственники, они должны были помогать ему и следовать за ним (см.: Гребнев, 1960б, 43). «Табун этот потоптал по дороге весь скот и сейчас вот-вот ворвётся в стойбище». Хан услышал грохот, как гром, и стал умолять зятя: «Сын мой, не могу этот табун пасти, не мне им владеть. Уведи этих страшных коней в своё стойбище!». Зять погнал табун позади аула, и повторилось то же самое: «всё, что встречалось на дороге, было потоптано, все животные, оставшиеся в живых, разбежались» (Гребнев, 1960а, 54-56).
В мифологии тюркоязычных народов есть образ покровителя коней Камбар-ата, имеющего иногда облик небесного жеребца (Юдахин, 77). А богини и шаманки принимают облик кобылиц. В эпосе же особое место занимает образ вожака табуна, в котором неясно проступают сакральные черты предка коней. Его функции в эпосе — охрана косяка, извещение владельца о разных несчастьях с табуном, чаще всего об угоне, защита кобылиц и жеребят от волков, людей — от врагов и пр. Отбив себе табун чужих кобылиц, вожак становится отцом коня — ровесника будущего сына героя.
(162/163)
В ойратском эпосе матёрый жеребец Тойон Джагыл ходит со своим косяком; «за тройными космами хвоста» его может спрятаться человек. Герой спасает его от волка-оборотня, и затем сам спасён этим конём, которому он завещал вернуться «в грядущий день нужды» (Ястремский, 94). В хакасских песнях тоже есть образ косячного жеребца, который пасётся с тридцатью или сорока кобылами (Катанов, 1963, 91).
В казахском эпосе «Кобланды» есть своеобразный образ коня, по-видимому, вожака табуна, который, при угоне табуна, в пути повернул, примчался в ставку и известил этим хана обо всём. Тот же мотив введён и в более позднее сказание о Шурè: серый конь Карамана вырвался и ускакал в город (Орлов, 94).
Любопытно, что в эпосе вожак табуна, защищая жизнь своих кобылиц и молодняка и обращаясь к стрелку, самоотверженно предлагает взамен свою жизнь почти в тех же выражениях, что и батыр, просящий оставить в живых его коня, а убить только его самого. В алтайском эпосе Алтын-Мизе встречает табун небесных чёрно-бурых коней, которые «ниже солнца и месяца идут», — «кони возвращаются в свой юрт», избавившись от погони. Когда Алтын-Мизе хочет стрелять, жеребец-вожак просит его: «Если будешь стрелять, то стреляй в меня, а моих жеребят и двухлеток не тронь» (Аносский сборник, 96-97).
Наиболее активна роль вожака табуна в башкирском эпосе, где он уводит от жестокого и нерадивого хозяина обычно весь табун, иногда же его половину. Так как этот вожак — водяной конь или потомок водяных коней, то в некоторых вариантах он и уводит табун под воду. Причиной этого может быть и нарушение какого-либо магического запрета: в башкирском эпосе в воду вернулся весь озёрный табун и скот, так как оглянулся, несмотря на запрет, герой-жених, ибо всё это — приданое водяной девы. Обычно не оглядываться должна сама невеста, как, например, в алтайском эпосе (Там же, 267). В вариантах сказания в том же эпосе о хромом коне (Акхак-Куле) он является родоначальником особой местной породы коней.
О кобыле в эпосе в основном упоминается как о матери верхового коня героя или кормилице его самого, с чем связаны и культовые отголоски. (Возможно, и употребление мяса именно кобылы на всевозможных обрядовых трапезах обусловлено не только его нежностью, но и сакральностью.) Одновременно бытовое отношение к кобылам вообще пренебрежительное, так как езда на них воинов, как на верховой лошади, была не принята.
(163/164)
Наиболее явственны отголоски древнего культа в якутских олонхо, где в виде кобылиц выступают белые шаманки-сёстры (т.е. служительницы древней религии, возможно и подменившие в своё время зооморфных богинь). Они говорят о себе: «...ниспустили-согнали нас в виде молодых белых кобылёнок в эту нашу, что лесное озеро, колыбель» и т.д. (Ястремский, 123). В тексте одного олонхо белые шаманки — покровительницы героя — сообщают о себе:
Мы очищены восемью огненными лучами света,
Возросли мы, имея седалищем чистый белый волос,
Когда мы в образе матёрых кобылиц
С пятнистыми ноздрями,
С запутавшимися в клубок гривами
Стояли, склонив передние ноги,
Принесли восемь священных чаш,
Наполненных кумысом и маслом.
Держа эти чаши, обходили нас
С солнечной стороны,
И посвятили в шаманки, передав нам
Благодатную силу слова
На восьми путях света.
(Окладников, 284)
Торжественный стиль этих речей выдает их принадлежность в прошлом к обрядовому фольклору.
Как мать прославленного в будущем жеребца кобыла выступает во многих сюжетах. Но предвидят это ясно иногда только знатоки лошадей. Так, Кортка, следуя на родину новобрачного мужа со свадебным караваном и увидев пегую жерёбую кобылицу, которая ещё только должна родить будущего предназначенного Кобланды коня, говорит Кобланды:
«Вот ту кобылицу
Хоть в обмен на меня возьми», — говорит.
Кобланды, правда, любезно отвечает:
[За тебя] голову под пулю подставлял
И, если бы отдал тебя, Яыз Кортка,
Взял бы скот целой страны!
Но Кортка продолжает:
Повелитель, твой верный спутник — конь,
Чалый жеребёнок, тот что
В утробе пегой кобылицы [сейчас].
(Кобланды, 231-232)
Кобылица принадлежит дяде Кобланды, и тот нехотя отдает её как обязательный свадебный подарок, в котором нельзя отказать. В туркменской версии «Кер-оглы» падишах
(164/165)
Хункар предлагает любой щедрый дар своему везиру (бывшему конюху) Джигали. Тот выбирает кобылицу, «хилую и поджарую, словно гончая собака» (так как видит, что это мать будущего тулпара?). Но падишах оскорблён, решив, что это вызов, и дело кончается трагически (Каррыев, 140).
Завладеть ценной кобылицей-производительницей, родоначальницей знаменитого табуна,— мечта алчного хана, посылающего почти на верную смерть зависимого от него джигита, своего батыра или зятьёв (значит, чужеродцев). В алтайском «Когутэе» шесть зятьёв отправлены ханом «не приносившую девять лет плода чубаро-пегую кобылу ловить», а за неё поймавший получит половину достояния тестя (Когутэй, 105) (см. выше о Великой кобылице Хан-Шилги и её потомстве в тувинском эпосе).
Как верховую лошадь кобылу мужчины у тюркоязычных народов почти не употребляли, это считалось «позором» для свободных мужчин (см.: Рогалевич, 149; Кармышева, 95; Ахметьянов, 69):
Ты был тюре с кобчика,
Хаживал ты в Туркестане,
Был рабом, что ездил на серой кобылице.
(Потанин, 1972, 283)
У якутов «ездит на объезженной кобыле» конюх (Ястремский, 150).
Но какие-то исключения для категории людей, даже принадлежащих к социальной верхушке, всё же были в том же казахском обществе. В эпосе казахов есть сравнение, что конь Тарлын пляшет, «как нежерёбая кобыла, на которой ездят бии» (эту выборную должность большей частью занимали старики?) (Орлов, 81). В том же казахском эпосе на кобылах парадно едут калмыцкие беки при знамёнах, под звон щитов и музыкальных инструментов:
Сидя щеголевато на холостых кобылах,
Ехали блестящие беки,
Стараясь стащить друг друга с лошади, играли.
(Там же, 120)
Ценилась кобыла соответственно ниже жеребца, поэтому в «Кер-оглы» и сказано с целью показать ничтожество двух юношей, что каждый из них был в своё время «рабом ценой в кобылу» (см. выше).
Мясо кобылы, в особенности ещё нежеребившейся, в эпосе лучшая пища, пиршественное блюдо, где и без того «море араки» и «горы мяса» (Гребнев, 1960а, 53, 158). Для пиров в эпосе по всякому случаю забивают именно кобылиц. Эпос
(165/166)
буквально переполнен восторженными описаниями варки мяса молодых кобылиц в котлах, их нежного жира и т.п. На пиру мясо кобылиц — деликатес само по себе, но гости едят на серебряной утвари только самое лучшее — «шейный и грудной жир восьми яловых кобылиц» (Ястремский, 21) или «отгулявшихся» (Там же, 14). В эпосе вообще постоянно упоминается конское сало, нарезанное ломтями. В действительности конское сало (топлёное) считалось у локайцев, например, «сильной» и «горячительной» пищей (Кармышева, 93), «придающей человеческому организму устойчивость к воздействию холода» (Гумаров, 143).
Подробно и со знанием дела повествуется в якутском эпосе о подготовительных к пиру действиях: поимке кобылы и её забое, обрывании «становой жилы», сдирании шкуры, рубке и варке мяса; в каждой операции участвуют многочисленные слуги (Окладников, 413).
Кроме того, мясо кобылиц и походная пища. Для этого похищают их даже в чужих табунах и тут же жарят и съедают на привале, причём туши целиком насаживают на вертелы — стволы (лиственниц). Табунщики, застав батыров за этим занятием, пытаются вмешаться. В ойратском эпосе табунщик Ак-Сахал увидел, что два батыра — Дайни-Кюрюль и Зан-Будинг — зажарили и съели семьсот сорок (!) кобылиц «из табунов соловых коней, а затем уснули тут же, и стал колотить их шестидесятисажённым укрюком, так что черенок искривился; но лишь один из них пробормотал что-то со сна, перевернулся на другой бок и продолжал спать» (Владимирцов, 1923, 165-166).
Но верховой конь — не пища. Съесть своего боевого коня — поступок в высшей степени неэтичный, позорящий. Предложение батыру съесть своего коня — оскорбление. Съесть же коня побеждённого противника — нарочитое надругательство. Все эти ситуации отражены в эпосе. Джангар в калмыцком эпосе зажаривает и съедает коня убитого им Тёгя-Бюса. В киргизском эпосе хан Кокче, рассорившись с Манасом, ранил его в поединке и конь унёс Манаса; Кокче, который хотел кончить дело миром, предлагает ему лекарство, догоняет Манаса и хватает за поводья его коня. «...Но конь Манаса „летит под закрытым небесными тучами солнцем, над травой с коленчатым стеблем”. Манас выхватывает саблю, сбивает Кокче с коня, убивает его лошадь и говорит прибаутку о том, что самого Кокче убить было бы грех, а теперь четыре ноги коня будут ему провизией на четыре дня, а кожа пойдет на обувь» (Фалев, 54). В казахском эпосе, когда вспыльчивый Кобланды во время бешеной скачки в нетерпении грозит
(166/167)
своему коню убить его, если тот замедлит бег, конь иронично отвечает: «Что же, если хочешь, отруби мне голову, будет тебе целый казан мяса» (Кобланды, 403). При особых обстоятельствах в действительности (например, если конь сломал ногу при общем отступлении) мог быть убит и съеден и верховой конь.
Однако в действительности в погребальном обряде могли съесть мясо умерщвлённого любимого коня усопшего, но захоранивали кости (если не сопогребали его целиком). В представлении выполнявших обряд это было способом обеспечить переход коня в иной мир вместе с хозяином, куда иначе конь не мог попасть. Кости при такой трапезе ломать запрещалось; за этим строго следили, как и за тем, чтобы ни одна не пропала. Восходит этот обычай, по-видимому, к культу умирающего и воскресающего зверя. Но в эпосе он прямо не отражён (очевидно, в сознание слагателей эпоса вошёл наиболее полный и архаичный обряд погребения с умершим целого коня).
|