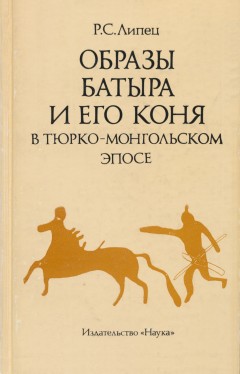 Р.С. Липец
Р.С. Липец
Образы батыра и его коня в тюрко-монгольском эпосе.
// М.: 1984. 264 с.
Часть II. Конь.
Многослойность образа коня (Предок, покровитель, вещий).
В эпосе разных тюрко-монгольских народов явно осознаются неразрывная связь между всадником и его боевым конём, значение для воина незаменимого, умного, преданного и такого прекрасного животного. Но эта связь преломлена даже в эпосе феодализирующейся эпохи через архаичные представления о тотемических отношениях, о какой-то родственной связи всадника-батыра и его коня. Конь — не только как бы побратим батыра (иногда тот так его и называет); их объединяют узы кровного, а как более поздняя замена — молочного братства.
Несомненно, что эпический образ верхового боевого коня на тысячелетия моложе образа коня вообще в культах, хотя, конечно, многое в нём опирается на архаическую традицию. Но культ лошади как пищевого животного мог относиться и к дикой ещё лошади (см. изображения в палеолитических пещерах), а затем и к одомашненной, ставшей также транспортным и тягловым животным. Однако культ боевого коня, представление о его специфических достоинствах, фольклор о нём, конечно, связаны именно с верховым и колесничным конём и могли достигнуть развития относительно поздно. Тем не менее всё это в значительной мере продолжало опираться на древние тотемические функции патрона.
Разобрать в сложном, многослойном образе эпического коня переплетение архаики, мифологии и вполне «историчных» черт верхового и даже именно кавалерийского коня — непросто. К тому же мифология ведь тоже изменялась вместе с развитием общества, не оставалась статичной.
Чудесный конь — часто «небесный» — не только участник походов, помогающий своему хозяину добиться победы. Конь в эпосе покровитель и руководитель хозяина, превос-
(124/125)
ходящий его в даре предвидения, быстроте реакций в сложных ситуациях, обладающий твёрдой волей, подчиняющей себе всадника в минуты, когда тот проявляет слабость. Даже в чувстве долга он иногда стоит выше, чем героический батыр. Такова эта пара, созданная гением коневодческих народов на заре раннеклассового общества.
Посещение конём ада и полёты его на небо, деятельность целителя, всевозможные превращения — всё это заставляет сопоставить архаичный пласт эпоса тюрко- и монголоязычных народов, когда эти образы и ситуации уже проникли в него, с древними шаманистскими легендами и практикой. Конь в эпосе выступает и в качестве одного из родителей эпического героя, чаще всего как мать. (См. якутское Олонхо «Сын Лошади», например, известное во многих вариантах. В одном из них герой-человек — сын лошади, в других — богини, принявшей временно облик кобылицы, или антропоморфной, случайно родившей его в загоне для лошадей. По происхождению же всё они связаны так или иначе с божеством коней Джёсёгёем — Емельянов, 22-46). Наряду с зооморфными образами действуют и обычные антропоморфные женские божества и их жрицы — шаманки (большей частью сестры героя), делящие с конём-тотемом функции целительниц и воскресительниц, но оттесняющие его постепенно от этих функций и вообще от патронирования героя.
Став в других, более поздних произведениях уже не матерью, а кормилицей героя, кобылица продолжает опекать его наравне с его молочным братом — жеребёнком; но функции покровителя обычно принадлежат уже жеребцу. Некогда, возможно, в истоке этих сюжетов, оба родителя героя были зооморфны.
Незавуалированные мотивы рождения человека от кобылицы проникли в эпос разных народов. Так, в башкирском фольклоре о Бузансы-батыре он рождён лошадью. Иногда он сразу появляется в человеческом облике, иногда же — сначала в виде жеребёнка: «„На третий день серая кобыла разрешилась от бремени ребёнком (человеческим)”. В других вариантах „серая кобыла (буз бейэ) рожает серого жеребёнка (буз колон)”, а через три дня он неожиданно превращается в мальчика — будущего героя» (Мингажетдинов, 301, 304). В том же башкирском эпосе популярен древний мифологический сюжет о водяных конях, обитающих в разных озерах Башкирии, и об их вожаке Ак-Бузате (бело-сером) коне; но с человеческим родом в этом сюжете связан уже не сам конь, а дочь водяного владыки.
(125/126)
Союз человека с лошадью, проступающий в мифах и эпосе, естественно, стал восприниматься со временем как нечто противоестественное и даже послужил в какой-то мере основой эпизода, включённого в бурятскую версию «Гесера». Молодая девушка Аралго-гоа просит Гесера разрешить её отцу кочевать на его пастбищах. Путь был дальний, и она осталась ночевать. Гесер подложил к ней «скинутого кобылой жеребёнка». По поверью, ребёнок от отца женщины родится с лошадиной головой, от старшего брата — с лошадиной гривой, от младшего брата — с лошадиным хвостом, от чужеземного раба — с четырьми конскими ногами. „А это совсем неизвестно что?” — думает потрясенная Аралго-гоа. Она просит Гесера взять её замуж и не открывать её позора. Гесер этого и добивался, но всё же хвост жеребёнка он вешает «виновной» на шею (Гесериада, 65).
Связь батыра с его конём как бы повторяется в потомстве того и другого. «Общее место» в восточных эпосах — одновременность двух браков: в день свадьбы героя его жеребец случается с кобылой тестя. Мотив этот известен издавна; такая ситуация есть в «Рустемиаде». Конь Рустема, Рахш, покидает на время своего хозяина, уйдя с табуном кобылиц, а тот в поисках коня попадает ко двору отца Тахмины и сочетается с ней. У Тахмины рождается сын от Рустема, у её кобылицы — жеребёнок, сын от Рахша, ставший конём мальчика. Этнические глубинные корни «Рустемиады» ещё не вскрыты в науке полностью; вероятно, в чём-то был прав Г.Н. Потанин, утверждая, что истоки сюжета — в Центральной Азии и путь его — с востока на запад, а не наоборот. Настаивать на обратном, образно определял он, — значит думать, что вода в реках идёт от морского устья к верховьям реки и по её притокам (Потанин, 1899, 342).
Имя Тахмина имеет корень «тахм» — богатырский, храбрый, исполинский (Толковый словарь таджикского языка); брак же воительницы-богатырки с героем-чужеземцем хорошо знаком по ряду эпосов и у тюрко-монгольских народов. В турецкой версии цикла о Кер-оглы герой женится на чужеземке, чтобы оставить ей сына, а коня его случают одновременно с кобылой тестя. Впоследствии сын в поисках отца по оставленному им знаку приезжает к нему на коне-сверстнике и остаётся у него (Карыев, 84).
В казахском сказочном фольклоре этот мотив стёрт. Хан уезжает на охоту на год, завещав дочери визиря, тридцать дней занимавшей его сказками и тем спасшей свою жизнь (сюжет «1001 ночи»!): «Ты роди сына, похожего на меня. После того кобыла родит жеребёнка, похожего на чёрного
(126/127)
жеребца, на котором я поеду». Дочь визиря переодевается в мужское платье и едет вслед за ханом, выдавая себя за юношу. Время от времени переодеваясь в женское платье (как якобы сестра этого юноши) она сходится с ханом, беременеет и возвращается домой. До этого, выиграв у хана его жеребца, она отправляет коня на родину, где тот случается с кобылой. Жеребёнок удаётся в своего отца. Вернувшись, хан сначала не может ничего понять, как это получилось, но потом всё разъясняется (Потанин, 1972, 167-169).
Подспудные связи родства сказываются в эпосе именно в том, что предназначенный батыру конь нередко ровесник батыра, родившийся с ним в один день. Так, одновременно с Манасом родился его конь Ак-Кула, и отец младенца, удалившийся из дома в горы при родах жены (видимо, по обычаю, хотя в тексте якобы из боязни проявить слабость духа), сам принял жеребёнка у черногривой саврасой кобылы. Это сын прославленного косячного жеребца Джорлобоза, которого Джакып обещает назвать Покровителем лошадей. Джакып решает подарить жеребёнка сыну, если родится мальчик. В это время вестник привозит ему радостное известие, что его жена Чийырда родила сына (Манас, 25-26).
«Общее место» в эпосе разных народов — трудные роды и у матери героя, и у кобылицы. Обе рожают исполинов: плод непомерно велик и активен. Чийырда, как это натуралистически изображено, в родовых схватках подскакивает до дымового отверстия юрты (Там же, 24, 27). Подобно этому, в алтайском эпосе кобылица, девять лет не приносившая плода, рожая, «разлягала» скалы и горы (Когутэй, 105; близко: Аносский сборник, 159). В ойратском эпосе жеребёнок от коня «величиной с сокровенный (священный) Хангай»; «когда родился он, землю покопал — огонь зажёгся; ...стал валяться — водяные струи закипели; заржал он на том месте, где родился, — занялся пожар» (Владимирцов, 1923, 59).
В киргизском эпосе есть и другая пара сверстников: Алмамбет и его конь Сарала: «Сын Азиза ребёнком был — Сарала жеребёнком был», и с тех пор их дружба (Манас, 237). В другом варианте Алмамбет и Сарала — тоже ровесники, а за ханшей и кобылой при их родах был «назначен одинаковый уход» (Грязнов, 1961, 14). Всю жизнь они не расстаются; после смерти Алмамбета конь, привёзший с невероятными трудностями его труп на родину, заколот, и они погребены вместе, т.е. и в ином мире будут неразлучны (Манас, 237-238, 254-255).
Биологическая разница в возрастном развитии сверстников — батыра и его коня в эпосе не играет роли: ведь «эпиче-
(127/128)
ский возраст» героя почти неизменен; зачастую он так и остаётся малолетком, если показан им в начале повествования; не стареет и его великолепный взрослый, навсегда «семилетний» конь.
Большое место, как уже упоминалось, занимает в эпосе молочное братство батыра и его коня. В ряде сюжетов кобылица вскармливает своим молоком не только жеребёнка, но и новорождённого героя, и, таким образом, конь и человек становятся как бы молочными братьями. (Нельзя забывать, какое мистическое значение придаётся в эпосе, а следовательно, и в традиционных верованиях тюрко-монгольских народов, женскому молоку.)
Парность образов батыра и коня сказывается и в том, что как изнемогший батыр восстанавливает свои силы, вкусив материнского молока, чудесным образом вдруг наполнившего грудь его дряхлой матери, так и старая кобылица в момент, когда её взрослый сын Байчибар изнемог от непосильных трудов и лишений в плену, предлагает ему своё размягчившееся при радости встречи вымя с целебным молоком. Алпамыш терпеливо ждёт, пока конь насытится, переживая момент свидания, и лишь спустя некоторое время мягко напоминает коню, что и сам спешит на свидание с матерью после семи лет разлуки.
Варианты молочного братства Кер-оглы и его коня Гирата противоречивы, спутанны и несут печать забвения исходного мотива. В наиболее полных и архаичных вариантах конь и его хозяин не только ровесники, но иногда и молочные братья. В некоторых вариантах их выкармливает одновременно одна и та же кобыла: жеребёнка и младенца-сироту. Иногда кобыла вскармливает младенца, родившегося от мёртвой матери, приходя из табуна пастуха Рустама на могилу; но в этом тексте сверстника нет, так как кобыла потеряла жеребёнка (Жирмунский, Зарифов, 194). От тотемического женского предка в тех вариантах, где молочного братства нет, осталось немного.
В алтайском «Маадай-Кара» есть весьма спутанная и усложнённая линия, где «патроном» героя Когюдей-Мергена является кобылица, мать четырёхухого серого жеребёнка» родившегося в один день с ним и впоследствии ставшего его боевым конём. Эта (тоже четырёхухая) кобылица необычайной силы и прозорливости происходит из табуна рыжих коней огненно-рыжего жеребца. Она вскармливает молоком вместе со своим жеребёнком младенца, оставшегося одиноким при разгроме его страны и пленении родителей; кобылица спасается бегством из плена и опекает младенца. Однако
(128/129)
при нужде она превращается в корову, а жеребёнок — в бычка. Её «творожком» (коровьим) и кормит младенца какая-то вещая старуха (см.: Маадай-Кара, 295 и др.). Конь и батыр в эпосе вообще претерпевают множество превращений, конь выступает в роли исцелителя и советчика и т.д. (см.: Там же, 379-380, 413, 429, 433). В примечаниях к «Маадай-Кара» С.С. Суразаков указывает на запись В.В. Радлова «Кан-Пюдей», где мальчика, спрятанного при набеге отцом Караты-Кааном, находит игреневая кобылица, которая вырвалась из угоняемого табуна и превратилась в корову, а старуха, оставшаяся одна на пепелище, вскармливает ребёнка её молоком. Телёнок коровы превращается в жеребёнка, становится конём батыра, под конец ссорится с ним, но тем не менее спасает его от Эрлика (Там же, 452-453).
С тем же эволюционным рядом родственных отношений человека и тотемического животного связана, вероятно, и функция коня, как воспитателя детей-сирот, так как (опять-таки в истоке сюжета, очевидно) антропоморфных родителей им и не полагалось иметь, как не было их, естественно, и у первопредка людей, снабженного поэтому в якутском эпосе, например, эпитетом «одинокий». Эту функцию коня-покровителя, спасателя вообще трудно отделить от функций коня-воина, сподвижника батыра (поздний, воинский пласт эпоса), но подразделять их в обзоре всё-таки как-то приходится.
В эпосе дети нередко растут сиротами после разгрома страны, под присмотром коня. Это воспитатели, точнее, пестуны героя и его сестры в прошлом, очевидно, тотемные предки. В алтайском эпосе осиротевшее дитя, которого отцовские кони спрятали в озере, а затем вывели оттуда, «бегая за рыжим конём... не отставая, называло его матерью» (Аносский сборник, 69-70). В том же эпосе одряхлевший хан Дьер-Дьенис без борьбы соглашается идти в плен (или в подданство?) к хану-захватчику. Но двух своих малолетних сыновей — Кан-Кёклёна и Кан-Унуты он успевает скрыть в Чёрной пещере, и там они подрастают. Найдя на месте дома отца «остатки железа» и сделав из них крючки, они удят рыбу; сделав лопату, собирают коренья кандыка; иногда подбивают зайца. Старший решает остаться на родине младший считает, что
Лучше объехать весь Алтай,
Осмотреть поверхность земли, —
и поступает к трём ханам слугой. В его детские годы конь-покровитель не упоминается, но тут ему является конь Сары-
(129/130)
Кер с четырьмя ушами и действует в этой роли (Баскаков, 287-298).
В тувинском эпосе «Бокту-Кириш», когда разграблен аул и угнаны в рабство старики-родители двух детей (мальчика и девочки), спасительной для детей становится встреча с кобылицей с жеребёнком, которая указывает мальчику спрятанное его отцом в пещере снаряжение. Когда дети вырастают, конь вместе с духами-хозяевами двух гор, имеющими облик пёстрых орлов, помогает сестре героя выигрывать состязания, что необходимо для спасения брата.
Почти в каждом эпосе вещие кони — спасители героев, и не только малолетков-батыров вместе с их сестрами, но нередко даже и взрослых батыров. Кони — хранители заветного родового оружия (или ниспосланного с неба, как и сам конь). Во всём этом, несомненно, надо видеть отголоски культа коня, занимавшего особое место в верованиях кочевников — коневодов и скотоводов.
Кони как советчики выступают при самых различных обстоятельствах. В безвыходном положении «в этом отношении они иногда более сведущи, чем сами богатыри», пишет Г.У. Эргис (Нюргун, 34). Конь указывает, например, своему всаднику на единственное уязвимое место у противника или где спрятана душа того и т.п.; он советует Бобрёнку, превратившемуся в человека, сжечь (?) свою шкурку (Когутэй, 154); он даже руководит сватовством хозяина, запрещая ему вернуться после первой неудачи:
Станут говорить другие батыры:
«Посмотрите: конь жениха,
Уехавшего к невесте своей,
Прискакал с пустым седлом!».
(Джангар, 61)
Конь предупреждает хозяина, что его нельзя отдавать в дар вместе с путами и затем горько упрекает за невнимание к его словам (Гребнев, 1960а, 131-133).
Небесные покровители или родные героя в ряде текстов предостерегают его, что его безопасность и постоянный успех зависят от повиновения своему коню: «Твоя жизнь будет всегда благополучна, если не будешь выходить из совета кровянорыжего... коня» (Аносский сборник, 176). Должен быть послушен коню и другой батыр: «Пока этот конь с тобой, не коснётся земли спина твоя» (Там же, 82). Причиной несчастий Алтай-Буучая является пренебрежение советами коня (Там же, 8).
(130/131)
В бою конь руководит действиями своего всадника, да ещё и ворчит на него при этом. Так, Бум-Ердени, готовясь к поединку с мангусом, спрашивает коня, где заветная душа мангуса. Конь говорит: «Бум-Ердени, хоть ты и славный витязь, но, оказывается, нет у тебя разума; хоть ты и славный муж, но нет у тебя, оказывается, глаз. Разве отец твой ездил воевать, спрашивая разума у коня? Разве мать твоя ездила воевать, спрашивая разума у коня?». Но затем всё-таки сообщает, что эта душа в двух змеях, обитающих в ноздрях чёрного коня, принадлежащего мангусу (Владимирцов, 1923, 73), и герой уничтожает мангуса.
Иногда конь заступается за побеждённого, предвидя, что тот может стать верным другом — даже побратимом его хозяина, иногда поддерживает дух своего всадника в минуту слабости, иногда напоминает о гражданском долге.
Он не только выносит раненого всадника с поля боя» если это необходимо, но прыжками, как уже упоминалось, вытряхивает сотни стрел, вонзившихся в тела Батыра и самого коня, добывает целебные травы или воду и пр. Конь яростно сражается в бою с конями противника, ловит их, взлетая за ними в небо, тащит за повод, чтобы хозяин мог их заколоть и похоронить по обычаю вместе с убитым врагом, их владельцем. Противник перед смертью иногда просит отпустить его коня «к родным кочевьям» или взять себе и заботиться о нём, вообще не мучить коня: если что и сделано плохого, то ведь всадником, а не конём. Конь ни в чём не виноват...
Отдельные кони отличаются особой мудростью. В ойратском эпосе говорится об одном коне: «...бело-светло-жёлтый конь по быстроте в семьдесят раз всех коней превосходит; а Пламенный Рыжко умом в семьдесят раз всех коней превосходит» (Там же, 1923, 154).
Возможно, что побратимство героя с его конём обусловлено в эпосе смутным представлением о «родственных» связях. Однако слагателями эпоса эта связь воспринимается уже как боевое содружество; недаром в эпосе неоднократно даётся патетическая сцена объездки коня (даже явившегося к герою по своему желанию или посланного его небесными покровителями). Мотив укрощения коня, пойманного героем о большим трудом, иногда имеет существенное сюжетное значение: в этот момент и испытываются мужество и ловкость героя-воина и завязываются его сложные отношения с боевым конём (на всю жизнь). В алтайском эпосе бархатно-вороной конь стал побратимом Кускун-Кара-Матыра. Батыр с конём дали обещание друг другу
(131/132)
Неразлучными друзьями быть,
Вместе жить,
Вместе умереть.
(Когутэй, 116-117)
Связь настолько неразрывна, что гибель коня лишает батыра силы внутреннего сопротивления (в позднейшей трактовке), хотя срок жизни коня биологически примерно втрое короче, чем человека. Погиб Ак-Кула, конь Манаса, и его хозяин считает, что для него всё кончено — он потерял «свои крылья»; перерезали сухожилия Гирату враги Кер-оглы — и тот перестает защищаться, т.е. отдаётся в руки врагов: без Гирата он ничто. Это становится понятным, если вспомнить, что конь в разных версиях предназначен высшими силами быть и «патроном», покровителем героя. Б.А. Каррыев по поводу Гирата справедливо утверждает, что это — пережиток культа коня (Каррыев, 27-28, 39-40, 143).
Парность образов батыра и коня отражается и в побратимстве коней, если ими стали их хозяева. Обычно это происходит после поединка, в котором кони яростно бились наравне со всадниками: кусали друг друга, стараясь перегрызть шею, лягались и т.д. Когда же батыры решили закончить поединок равных (или даже не вполне равных) примирением и побратимством, то же сделали и их кони: батыры поцеловались, их кони «понюхались» (Грязнов, 1958 [1961], 15, 108 [?]).
В «Гесере», причитая по Нанцону, его конь говорит о дружбе всех богатырских коней в дружине Гесера: «Ведь тридцать богатырей сошлись, как звуки одной лютни-хура, как коленца одного камыша. А мы, тридцать бурых коней, сошлись, как крылья одной птицы» (Гесериада, 158).
Дружба героев порождает дружбу их коней. В «Джанга-ре» встретились кони Джангара и Хонгора после того, как Джангар отправился выручать из адского плена Хонгора на своём Рыжке. Конь Хонгора, измученный, вырвался из ада, где ещё остались их хозяева. На коне Хонгора «привязь, как для диких коней. На нём трое адских пут. Ни воды, ни травы... Услыхал Рыжкино ржанье... Сбил свои повязки (привязи. — Р.Л.)», разбил и железную юрту. «Покачиваясь на мягкой траве, спотыкаясь на твёрдой траве, подбегает он к Рыжке. Положили боевые кони шея на шею и покусывают. Наваливаются на свои бёдра (?) и тяжело вздыхают боевые кони Рыжко и Сивко, вспоминая о двоих своих, о Хонгоре и Джангаре» (Джангариада, 200-201).
Однако дружба коней не только сопровождает дружбу их хозяев, но иногда и предвещает эту дружбу или объясняется родством их хозяев, о котором те ещё не знают. «Общее
(132/133)
место» в эпосе — наблюдение батыра за поведением двух коней (его и потенциального противника или родственника) у коновязи. В якутском эпосе герой у чужого жилища видит необычайного коня, у которого снаряжение из облаков, лучей солнца и месяца и пр., т.е. это «небесный конь». «Рядом с этим конём привязал он своего. Эти два коня стали на дыбы и бились. Потом взвизгивать стали и пощипывать зубами друг дружку. На это: „Должно быть, с хозяином этого коня друзьями будем”, думает прибывший». Хозяин «небесного коня», Белый юноша, действительно оказался младшим братом пришельца Агыя-богатыря (Ястремский, 80).
Превосходство коня у коновязи означает и превосходство батыра. Когюдей-Мерген видит внутренним зрением обращённых волшебством в «серую кожемялку» и «торбока» своего и отцовского коней в их подлинном виде, как они стоят и лижут друг друга. При этом
Уши тёмно-сивого
На целый аршин выше,
Чем уши отцовского коня, торчали.
(Маадай-Кара, 377)
Сакральные пережитки в образе эпического коня выступают в том, что конь своими действиями может вызвать стихийные метеорологические явления: так, в алтайском эпосе конь «спустил (с неба) белый снег глубиною до головы лошади» (Аносский сборник, 14), чтобы задержать двух ханов, убийц и захватчиков. (Валяясь по земле, кони тем самым вызывают мороз и снегопад — Суразаков, 1961, 101).
К вещим свойствам коня относится и его искусство превращений. Это искусство не изолировано, конечно, от цикла бесконечных превращений в эпосе самого героя, а также иногда других людей (в птицу, платок и пр.) или всех пленных (в мелкие камни и пр.). Особенно изобильны всевозможные перевоплощения в архаичном алтайском эпосе.
Наиболее часто конь превращается в звезду (Чолмон, Чолпон, Чормон). Обычно он делает это временно, если бессилен помочь хозяину в неравном поединке. Так, в алтайском эпосе конь Темичи-Ерен оставил поле битвы своего хозяина с горой-зверем Каракулой и «прилип к основанию неба под видом Белого Чормона», а затем вернулся (Аносский сборник, 28). По-видимому, образ коня-звезды как-то связан с астральным культом и «небесными конями». Ещё более сложны превращения такого рода в якутском эпосе: «Обратил свою лошадь Северной Медведицей (Арангас сулус), узду поручил Плеядам (Юргяль), седло поручил блуждающей
(133/134)
звезде (Кындыс), недоуздок поручил Венере (Чолбонг)» (Худяков, 108).
Конь принимает также облик определённого человека, что помогает ему осуществить разные хитрости. Так, в алтайском эпосе конь Кара-Кюрен, обернувшись Шулмус-ханом, проникает в его дворец и забирает обманным путём внешние души Алмыс-хана и Шулмус-хана — двух медвежат (Баскаков, 206-207). В том же эпосе другой конь обернулся дочерью Ерлика, выпросил себе у её отца поиграть семь детёнышей выдры — души сыновей Ерлика — и «побежал на небо» с ними (Аносский сборник, 188-189). Обладая этими душами, хозяева коней уничтожают своих врагов, а в других случаях диктуют им свои условия. Ещё один конь в том же эпосе — Чёрно-бурый — пишет письмена к Учь-Курбустан-кудаю, чтобы передать матери коней-братьев — Карагуле: «Иду в плен» (Аносский сборник, 69-70).
Конь в эпосе принимает облик разных животных и насекомых, мелких предметов. В алтайском эпосе конь оборачивается «чёрно-бурым» маралом, чтобы помочь Шокшыл-Мергену, который должен биться с чудовищным «тёмно-чёрным маралом» (Баскаков, 86). Превращается конь и в птиц, чтобы подняться на небо (сам он уже, видимо, потерял былую способность летать). В том же эпосе конь превращается в «трёхкрылого белого сокола» (Суразаков, 1961, 161 и др.) или в другую ловчую птицу; в якутском эпосе юноша из «чистого мира» вместе «с конём, телом оборотившись в стерха», возвращается туда (Ястремский, 107).
Превращение коня в мелких животных и другие существа и в мелкие предметы имеет две цели: 1) лёгкость проникновения в охраняемое место и 2) удобство транспортировки чего-либо.
Батыр и конь, действуя опять-таки парой — став мухой и ласточкой,— в алтайском эпосе прошли все препятствия (Аносский сборник, 136). В том же эпосе конь превращает батыра днём в муху, а сам становится змеёй, затем мышью и пр., и пока за ним гоняются, нужную им шапку (лисью волшебную) похищает батыр (Баскаков, 98-99).
Конь не только сам принимает различный облик, но может изменять облик (с целью уменьшения) и посторонних предметов. Так, в алтайском эпосе сваты должны, по обычаям сватовства, привезти с собой араку и мясо. Конь Сары-Кер сумел выручить хозяина — Кан-Унуты; в одной ноздре коня оказалась пробка от тажуура, и она стала девятью тажуурами араки; в другой — позвонок овцы и он стал мясом девяти баранов (Там же, 301).
(134/135)
Под влиянием буддизма выступают как перевоплощенцы не только батыры, но и их кони: «В прежнем перерождении, — сказал тогда сандаловый тёмно-рыжий конь, — я был тонким кречетовидным сивым конём красного богатыря Нагарджуны с восемьюдесятью восемью косичками» (Владимирцов, 1923, 198).
Наряду с превращением в других животных в эпосе часто встречается произвольное изменение конём собственного конского облика. Из цветущего животного он превращается на время в исхудалое или даже имитирует иногда свою смерть. Так, кони Алтай-Буучая, решив покинуть захватчиков-ханов, представляются умершими от напряжения в беге, а затем «воскресают» (как и гончие собаки и соколы) с тем, чтобы помочь прежнему хозяину (Суразаков, 1961, 21, 25).
В одном тексте конь, залетев к Учь-Курбустану, «переродился» в четырёхлетку (Аносский сборник, 19), в другом тексте — даже в двухлетку с плохой сбруей (Аносский сборник, 138, 139, 213) или в «чуть живую кобылу» (Баскаков, 233). В тувинском эпосе пара — всадник и конь — становится парнишкой и хромым коньком (Бокту-Кириш, 31). Это позволяет всегда такой паре беспрепятственно проникать во вражескую страну, к недоступной невесте и т.п.
Среди различных превращений коня надо отметить магические свойства вырванного конского волоса. Конский волос или шкура занимали видное место в реальном культе у коневодческих народов. Эти культовые и мифологические элементы разнообразно отразились в эпосе. Волос из гривы или хвоста коня употребляется для различных магических манипуляций: он, сожжённый или без предварительных процедур, может превратиться путём заклинаний в коня. Таких «коней» приносят в жертву различным божествам в трудном пути; их используют для транспортировки с неба и обратно дочерей небесного божества и пр.; по волосу коня, как по мосту, герой может живым проехать через огненное море в преисподнюю и т.п.
При помощи чудесно удлинившегося хвоста (или просто исполинского) или одного волоса из хвоста конь поднимает из зиндана узника-батыра. Наиболее известно это по узбекской версии «Алпамыша». А.П. Окладников дал сводку этого мотива в якутском, алтайском, бурятском и монгольском эпосах (Окладников, 289). В ойратском эпосе из волосков коня батыр сделал верховых коней со всем снаряжением для семи красавиц, у которых не было своих коней; для этого он вырвал по семи волосков из гривы и хвоста своего коня,
(135/136)
завязал их узлом и поднёс «под его дыхание» (Владимирцов, 1923, 201). Из волоска сделан один конь, но такой, что небесная дева едва может на нём усидеть (Там же, 116-117); Дайни-Кюрюль тоже делает коня из волоса (Там же, 172). В якутском эпосе Кулун Куллустур выдергивает семь волосков у своего коня, превращает их в семь яловых кобыл, которых приносит в жертву семи «медноликим», чтобы получить проход мимо коновязи, внутри которой находились эти лики, и произносит при этом довольно пространное заклинание — о предоставлении ему свободного и ровного пути (Ястремский, 64-65). Конь велит хозяину выдернуть у него волос из хвоста, в случае опасности сжечь его — и тогда он появится вновь рядом (Гесер, ч. II, 124-125).
А.П. Окладников видит истоки этих мотивов в архаичных охотничьих культах, где он находит овладение шерстинками зверя с магической целью. У зооморфной хозяйки зверей — «бугады», имевшей вид «гигантской лосихи или самки дикого оленя при стаде диких животных данного вида, шаман незаметно похищал волшебные шерстинки, которые затем превращались в зверей, как только шаман вытряхивал их в родовых угодьях своего рода» (Окладников, 93).
Можно привести и другие аналогии: у тех же якутов в эпосе конский хвост употреблялся при камлании (Ястремский, 139) и т.п. Волосами из конской гривы и хвоста (белой лошади?) перевязывали обрядовую утварь: берестяное ведро с кумысом, ложки и пр. во время празднеств (Там же, 205, 207) или погребения «счастливого коня» (Алексеев, 48).
Особо выразительна роль коня как исцелителя и воскресителя. Он посещает и небо и подземный мир (при помощи волшебных средств), пытаясь помочь своему хозяину и его спутникам. Он совершает воинские и другие подвиги, попадает в плен и вырывается оттуда. Наиболее архаичны, конечно, те версии, где воскресителем или исцелителем является сам конь, а не антропоморфные персонажи. Так, в тувинском фольклоре Канга-Карат, конь Хангавая, ржанием воскрешает хозяина, брошенного в мешке в море, когда его выловили и сложили кости в анатомическом порядке (Аносский сборник, 262,. Надо сразу оговориться, что в эпосе вообще трудно строго разделить мотивы воскрешения и исцеления: умерших, например в якутских олонхо, воскрешают неоднократно.
Исцеляет конь не только ржанием, но и при помощи магических снадобий и веществ. В тувинском эпосе, например, брызгами изо рта конь возвращает в поединке силу своему
(136/137)
хозяину (Гребнев, 1960а, 52). Целебная «травка», которая выпадает из ноздрей коня, когда он чихает (Баскаков, 183), возможно, заменила субстанцию самого коня. Вообще же целебные травы и источники в «практике» коня обычны.
Наиболее подробно процедура исцеления описана в алтайском эпосе, когда надо вернуть силу изнемогшим всадникам и их коням или излечить потерявшего рассудок героя. Конь вернул здоровье Эрке-Мендиру и его спутнику Хан-Кюлеру и исцелил обоих их коней, в том числе и себя. Достигает конь этого тем, что добывает целебную траву и делит её на четыре части: их съедают по одной Эрке-Мендир, Хан-Кюлер и их кони (Баскаков, 183-186). После этого Хан-Кюлер стал даже таким, как в молодости:
Рёбра его затрещали,
Пуговицы все отлетели,
Шуба по швам распоролась,
Белая голова почернела,
Жёлтые зубы побелели.
Конь Хан-Кюлера стал огромным и сильным; так же изменились и Эрке-Мендир, и его конь (Там же, 183-184).
Тот же Эрке-Мендир, попав в преисподнюю, вступает в бой с «народом» подземных богатырей. Эрке-Мендир рвёт их на части, но их при этом всё прибавляется, а сам Эрке-Мендир уже «начал сходить с ума». На помощь ему спустился в преисподнюю Хан-Кюлер; два их коня тоже вступают в дело. Схватив зубами за руки безумного, кони купают его в целебных озерах: в Чёрном озере, а затем — в Жёлтом, «раскачивая, туда-сюда окунали... и мыли» (Там же).
В алтайском эпосе есть и другой распространённый мотив: конь спасает батыра от колдовского забытья, в которое его погрузила на много лет искусительница («Гесер», «Джангар»); батыр забыл родину, прошлое, ведёт дремотное существование в чужой стране или в Нижнем мире. В алтайском эпосе герой живет сто лет с дочерью Эрлика, потеряв память. Батыра «приводит в сознание» его конь Мескей-Боро путём всевозможных хитростей. (Дело осложняется тем, что батыр сам просил отогнать своего коня, чтобы не было соблазна вернуться на землю, которую он решил оставить ради новой жены.) Но дочь Эрлика тайно катается на коне, прельстившем её своей иноходью. Наконец, герой, увидев коня, вспоминает былое и уезжает на нём, разрушив девятирядную чугунную крепость Эрлика: «Благодаря одному коню Мескей-Боро (вы) вышли», — говорят ему родные (Аносский сборник, 126). В «Джангаре» в конечном счёте причиной того, что
(137/138)
Джангар очнулся от многолетнего забытья, служит его Аранзал.
Своеобразно участие коня в спасении матери Гесера, случайно попавшей в царство Эрлика и потерявшей разум; она ест полынь, зовёт сына. Очистившись, выполоскав рот «святой водой — расаяной» и глотнув её трижды, конь закусывает зубами душу матери Гесера, преобразившись в «белого горного коня» с привешенными мечами на груди, уносит её к Хормусте-тенгрию, где она обратилась в «царицу фей-дакинисс» (Гесериада, 219-220).
Итак, вещий конь сам воскрешает или исцеляет батыра; но когда исполнители эпоса и их аудитория были уже не в состоянии воспринять такие архаические представления, происходит модификация. Тогда конь только «организует», так сказать, воскрешение, привезя обманом к телу хозяина деву-воскресительницу, обычно дочь небесного божества. Достигнув неба, конь похищает её, привлекая своей красивой иноходью; девушка испытывает непреодолимое желание поездить на нём. Так, в алтайском эпосе небесная девушка выбирает из табуна покататься именно коня, принадлежащего герою, и таким образом конь увозит её на землю (Аносский сборник, 17 и др.). А как только дева-воскресительница на его садится, ноги её «прилипают» к коню посредством его чар, или же конь, спускаясь с неба, поднимает её в воздух. Во время бешеной скачки конь «спереди гривой, сзади хвостом поддерживает её» (Там же, 22). В некоторых алтайских вариантах на коня садятся вместе или поочередно две девы, но ему нужна лишь одна из них:
Вместе садились на вороного жеребца
И иноходь его испытывали.
(Суразаков, 1961, 146)
В одном тексте рыжий конь Темичи, трижды встряхнувшись и оборотясь соколом,
Вверх устремившись, полетел.
Поднявшись в верхний мир,
В безлесном чистом алтае
Самой лучшей иноходью поехал.
К дверям Юч-Курбустана
Рысью теперь подъехав,
Три раза (вокруг дворца) кружась, кланялся.
Дочери Юч-Курбустана любуются конём; старшая садится, затем средняя, а младную он увозит на Алтай:
Милый рыжий конь Темичи
Обе ноги её, чтоб к стременам прилипли,
К обеим стременам заколдовал,
(138/139)
Обе руки, чтоб к передней луке седла прилипли, заколдовал.
С небесного мира,
Во всю длину вытягиваясь,
Передние ноги вперёд выбрасывая, поскакал.
(Там же, 161-162)
При этом конь идёт на всякие хитрости и использует чары, чтобы усыпить подозрения нужной ему девы-воскресительницы. Прибыв на место, небесная дева воскрешает погибшего, обычно перешагиванием через него (как и земные «лекарки», она должна отличаться чистотой даже в помыслах) (см., например: Джангар, 35). Иногда предметами для оживления служат плеть или платок девы. Когда дева привезена и воскресила батыра, она иногда возвращается на небо, а иногда обратный путь оказывается для неё закрытым, так как она «осквернена» пребыванием среди людей, общением с земными существами, земной пищей. Тогда она становится женой или своего «пациента», или его сына.
Мотив похищения конём девы-воскресительницы (в более поздних, видимо, произведениях) модифицируется, и конь выступает просто как похититель невесты для своего хозяина (Ястремский, 67; Нюргун, 127; Киреев, 101; Гребнев, 1960а, 17). В одном из произведений алтайского эпоса содержится своеобразный мотив: конь сначала способствует временному умерщвлению брата хозяина с тем, чтобы затем воскресить его, но сам оживить его не может. Дело в том, что Ката-Мерген, впав в безумие, сделался «злым зверем». Кюн-Хан по совету коня напоил чужеземца ядом, и они «положили его в тень в прохладное место». Однако воскресить его сумела лишь дочь хана (Баскаков, 272-279). Забота о сохранении тела погибшего, которого ждёт воскрешение, — «общее место» в эпосе.
|