|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Китайские источники |
БКб |
КТб |
Даты китайских источников |
Даты надписей |
Набег Мочжо на Лун-ю |
поход на тангутов |
12-й месяц 1-го года Цзю-ши (январь 701 г.) |
конец 709 — начало 701 г. |
|
Назначение Сян-вана командующим китайской пограничной армией |
3-й месяц 2-го года Чанъань (aпрель 702 г.) |
|||
Китайские источники |
БКб |
КТб |
Даты китайских источников |
Даты надписей |
Набег Мочжо па Ордос и Шаньси |
поход на «согдийцев шести чубов» |
поход на «согдийцев шести чубов» |
1-й месяц 2-го года Чанъань (февраль 702 г.) |
конец 701 — начало 702 г. |
Посланы войска для предотвращения продвижения тюрков |
битва с Онг-тутуком |
битва с Онг-тутуком |
3-7-й месяц 2-го года Чанъань (апрель — июль 702 г.) |
702 г. |
Отступление Мочжо через Шэньси |
7-9-й месяцы 2-го года Чанъань (август — октябрь 712 г.) |
|||
Участие Бильге и Кюль-тегина в столкновении с войсками Сян-вана (весна — лето 702 г.) исключает возможность похода обоих племянников Капагана в направлении, противоположном движению главных сил тюркской армии, и предопределяет локализацию упомянутых надписями согдийцев в Ордосе — Шэньси.
Г.Е. Грумм-Гржимайло, основываясь на приближенных датировках, допускавших годовой разрыв между походом на alty čub soγdaq и сражением с Онг-тутуком, отмечал, что «для прохода походным порядком 8 000 вёрст с верховий Орхона до Шахрисябза и обратно в Китай годовой срок недостаточен даже в том случае, если бы туркам не встретилось никаких задержек в пути». [67] Грумм-Гржимайло справедливо указал, что политическая конъюнктура на Тянь-шане в 701-703 гг. исключала возможность появления там восточных тюрков и продвижения через земли Тюргешского каганата отряда Бильге и Кюль-тегина. Исходя из этих предпосылок, Грумм-Гржимайло пришёл к заключению, что сообщение орхонских надписей о походе на alty čub soγdaq является ложным. «Вся совокупность внешних условий исключала возможность турецкого похода 701 года на Согдиану, и орхонские надписи, помимо воли их авторов (разрядка моя. — С.К.), дают тому подтверждение». [68]
Однако высокая точность известий Кошо-цайдамских памятников о событиях, относящихся ко времени второго Восточнотюркского каганата, не подлежит сомнению. Выводы Грумм-Гржимайло не получили признания в специальной литературе, так как их рациональная часть — критика концепции Маркварта о походе в Согд в 701 г. Восточнотюркского отряда — свелась к общему негативному выводу о недостоверности надписей как исторического источника.
Между тем достаточных оснований для такого вывода не существует. Надписи сообщают не о походе в Согд, из чего исходили и Маркварт, и Грумм-Гржимайло, а о нападении на согдийцев, живших в Ордосе — Шэньси.
Согдийцы шести округов. ^
Проблема согдийской колонизации Ордоса впервые была рассмотрена Э. Пуллиблэнком. [69] Развивая гипотезу Э. Шаванна и П. Пельо о применении в танскую эпоху термина ху почти исключительно к согдийцам, Э. Пуллиблэнк предположил, что существовавшая между 679-786 гг. в Южном Ордосе — Северном Шэньси область лю ху чжоу «шесть округов ху» была населена согдийцами.
Вместе с тем словом ху называли и местное население Восточного Туркестана, говорившее на иранских и «тохарских» языках и диалектах. Для выделения согдийцев из этой среды Пуллиблэнк указал ещё на один критерий — в китайских источниках перед именами уроженцев согдийских городов ставился иероглиф, принятый для обозначения этого города. Таких прозвищ по числу городов-государств Согда было девять, семь из которых были особенно распространены: Кан (Самарканд), Ань (Бухара), Ши (Чач), Ши (Кеш — употреблён иной иероглиф, чем в предыдущем названии), Ми (Маймург), Цао (Кабудан), Хэ (Кушания). [70] С шестью из этих владений Согда Маркварт и отождествлял alty čub soγdaq. [71] В китайских источниках согдийцев иногда называют «ху девяти фамилий». В одном случае упомянуты «девять ху шести округов». [72]
Выводы Пуллиблэнка вызвали известные сомнения, и были предложены иные возможные толкования анализируемых им и аналогичных сообщений. [73] Не исключалось, что «ху шести округов» могли быть потомками местного юечжийского населения или поселенцев из Кучи и других городов Восточного
Туркестана, основавших свои колонии в северо-восточной части Шаньси ещё во II в. н.э. [74]
Рунические надписи позволяют решить всю проблему достаточно определенно. Слово čub, интерпретация которого встретила наибольшие трудности, передает китайское чжоу (танское *tśiəu) «округ». [75] Выражение alty čub soγdaq «согдийцы шести округов» является калькой китайского административною термина «шесть округов ху», обозначавшего область согдийских колоний в Южном Ордосе — Северном Шаньси.
Согдийские колонии в Ордосе. ^
«Шесть округов ху» — Лучжоу, Личжоу, Ланьчжоу, Сайчжоу, Ичжоу и Цичжоу — были учреждены в 679 г. Их точная локализация затруднительна. Пуллиблэнк предположительно помещает эти округа вдоль границы Ордоса, между Линчжоу (Линву) и Сячжоу (Шаньси). [76] Важные сведения, касающиеся локализации согдийских колоний Ордоса, содержатся в разделе Синь Тан шу, посвящённом административной географии империи и ежегодным податям из различных областей Китая. Из Ордоса в столицу доставляли лакричный корень, необъезженных лошадей, шкуры и кожи, воск, молочные продукты, соль, перья орлов для стрел, войлок, кошмы и «полотна, которые изготовлены женщинами ху». Округа, поставлявшие эти полотна, располагались вдоль восточного рукава Хуанхэ в излучине реки, к югу от переправы в Шэнчжоу. [77]
В 681 г., после восстания Кутлуга и ухода тюрков за Жёлтую реку, роль согдийцев в Ордосе значительно возросла. Их боевые отряды играли немалую роль в защите границы. В 696 г. они участвуют в отражении киданей, а в 697 г. командующий согдийским отрядом Ань Дао-май отбил тюркский набег на Шэнчжоу. Дальнейшую историю согдийцев в Ордосе Пуллиблэнк излагает следующим образом: в 698 г. по требованию Мочжо «несколько тысяч шатров» согдийцев переселились в степь за Хуанхэ. Оставшиеся в Ордосе в 703 г. были объединены в двух округах, преобразованных в 708 г. (точнее — в
707 г.) [78] в округ Ланьчи, разделённый на шесть уездов. Однако название «шесть округов ху» не исчезло; в 714 г. оно было упомянуто вновь.
В 721 г. вспыхнуло восстание ордосских согдийцев, подавленное китайскими войсками. Согдийцев расселили по другим провинциям, но в 738 г. «простили» и вернули в Ордос. В 786 г. согдийцы из Ордоса начали переселяться в Шэньси и вскоре были инкорпорированы в состав тюркского племени шато. В 830 и 874 гг. среди шато ещё упоминаются «девять родов ху из шести округов», а согдийские имена бытуют до конца X в. [79]
Иначе освещён начальный этап истории «шести округов» Лю Мао-цзаем. Он отмечает, что шесть округов, потребованных Мочжо в 696-698 гг., не «округа ху», а шесть округов, учреждённых в 670-673 гг. «из подчинившихся тюрков», как на это указывает текст Тан шу. Четыре из этих округов (Фэнчжоу, Шэнчжоу, Линчжоу, Сячжоу) находятся в излучине Жёлтой реки, два (Сочжоу и Дайчжоу) — в Шэньси. Предположение Пуллиблэнка об ошибке составителей текста Тан шу необоснованно. Таким образом, шесть округов, учреждённых в 670-673 гг., и «шесть округов ху» — две разные административно-территориальные группы; Лю Мао-цзай отвергает предположение Пуллиблэнка о переселении в 698 г. согдийцев из Ордоса в каганат. [80] Однако ни Пуллиблэнк, ни Лю Мао-цзай не приводят важного для решения затронутого вопроса свидетельства, содержащегося в биографии Тянь Жэнь-хуэя и основанного на отчёте посольства Тянь Гуй-дао (698 г.): «Мочжо ещё просил в докладе государыне шесть округов ху и земли Шаньюева наместничества, но государыня не согласилась, почему Мочжо был глубоко обижен». [81] Здесь ясно определён объём запроса Мочжо — он требовал передачи ему и Шаньюева наместничества, и «шести округов ху». [82] Тем самым снимается противоречие между точками зрения Пуллиблэнка и Лю Мао-цзая: исчезает необходимость искать ошибку в источнике, определяется чёткое разграничение между шестью округами Шаньюева наме-
стничества и «шестью округами ху» (на этом настаивал Лю Мао-цзай), но сами «шесть округов ху» включаются в сферу требований Мочжо (мнение Пуллиблэнка); гипотеза о переселении согдийцев в каганат в 698 г., естественно, отпадает.
Способность «согдийцев шести округов» формировать свои военные отряды для защиты границы говорит об их значительном количестве. Интересные данные о численности согдийцев в Ордосе содержатся в биографии командующего китайской армией, подавившей восстание согдийцев в 721-722 гг., Чжан Юе. Последний вождь восставших, Кан Юань-цзе, был схвачен вместе со своими сородичами, мужчинами и женщинами, число которых превышало 3 тыс. человек. «После этого около 50 тыс. оставшихся ху шести округов были выселены из района излучины реки... так что область в Шофане на тысячу ли к югу от Жёлтой реки была опустошена». [83] Даже если учесть возможные преувеличения, содержащиеся в победной реляции командующего Шофанской армией, нельзя отрицать многочисленность согдийского населения Ордоса в начале VIII в.
Весьма спорен вопрос об экономической природе согдийских поселений. Пуллиблэнк на основании сообщения, что в 714 г. китайский двор закупил лошадей в «шести округах ху», пришёл к выводу о превращении ордосских согдийцев в степняков-скотоводов. [84] Такой процесс имел место после ассимиляции согдийцев среди шато, [85] но пока согдийцы сохраняли свою обособленность (тюркский текст называет их budun «народ» — БКб, 25), гипотеза Пуллиблэнка не кажется оправданной.
Пуллиблэнк не приводит контекст цитируемого сообщения. В 713-714 гг. указом Сюаньцзуна были открыты рынки для торговли с тюрками в «шести округах ху», Хэдуне (Шаньси), Шофане (Ордос) и Лун-ю. Особенно выросли закупки лошадей; между 713-726 гг. их поголовье возросло в Китае с 240 тыс. до 430 тыс. голов. Крупнейшим конным рынком стал Ордос, где с середины VII в. существовало восемь больших государственных конных заводов, занимавших территорию в 1230 цинов. [86]
«Шесть округов ху», ставшие одним из главных центров торговли с тюрками, естественно, широко использовали своё посредническое положение. Главы согдийцев за успешно проведённую в 714 г. операцию поставки лошадей по китайскому правительственному заказу были награждены почётными титулами. [87] Как посредники в торговле с тюрками согдийцы выступали и позднее; будущие вожди восстания 755 г., Ань Лу-шань и Шы Сы-мин, оба согдийцы по отцу и тюрки по матери, бла-
годаря хорошему знанию языка пограничных «варваров» начинали свою карьеру в качестве правительственных маклеров в торговых пунктах на тюркской границе. [88]
Следует, впрочем, отметить, что коневодство необязательно связано с кочевым образом жизни. Лучшие кони, выше других ценившиеся в Китае, выращивались как раз в осёдлоземледельческих районах Средней Азии — Фергане, Согде, Тохаристане, Нисе. [89] В 104 и 99 гг. до н.э. ради овладения несколькими десятками «небесных аргамаков» ханьский император У-ди, не считаясь с огромными затратами, дважды посылал войска в Давань (Фергану). [90] Лошади Согда, по сообщению «Танхуйяо», были из породы даваньских лошадей и ростом «чрезвычайно велики». [91] В 622 т. самаркандский владетель прислал в дар китайскому двору 4 тыс. согдийских лошадей, в связи с чем источник замечает: «Теперь служебные лошади (в Китае), кажется, и есть их разновидность». [92]
Всё это говорит против предположения Пуллиблэнка о превращении «согдийцев шести округов» в кочевых скотоводов; факты скорее свидетельствуют о важной роли торговли для согдийских колоний в Ордосе. Вместе с тем отнюдь не исключено, что согдийцы занимались земледелием и скотоводством и. возможно, не только для собственного пропитания. Археологическая разведка Ордоса и прилегающих территорий, которая могла бы определить здесь область распространения согдийской культуры и её характер, ещё не начата. Проводившиеся работы почти целиком ограничивались изучением памятников каменного века, бронзы и раннего железа (от палеолита до эпохи Хань). [93] Однако результаты географического и археологического изучения Ордоса уже сейчас позволяют утверждать, что ко времени прихода согдийцев там жили отнюдь не одни кочевники. [94] Освоение излучины Хуаньхэ китайцами началось
ещё в эпоху Чжаньго (403-221 гг. до н.э.); [95] по всей территории Ордоса, особенно в долине Жёлтой реки, открыты многочисленные городища ханьской эпохи (206 г. до н.э. — 220 г. н.э.) — военно-административные центры и земледельческие поселения китайских колонистов. Более того, в 1956 г. был найден памятник, свидетельствующий, что гунны Ордоса вели и осёдлый образ жизни, — археолог Ли И-ю исследовал близ Эрланьхугоу (в 100 км к северу от г. Цзинина) большое гуннское городище (500×200 м), обнесённое земляным валом, Городище делится рекой на две половины — северную и южную. Северная половина покрыта холмами, скрывающими остатки древних построек, среди которых собрано большое количество фрагментов серой ханьской керамики. Южная половина лишена следов застройки и служила, очевидно, загоном для скота. Отдельные намёки в китайских источниках позволяют предположить, что подобного рода осёдлость была характерна и для тюркского населения Ордоса. Ли И-ю установил также, что значительная часть городищ ханьской эпохи не была заброшена; вскрыты позднейшие наслоения, в том числе слои танского времени. [96] В VII-IX вв. были основаны новые поселения; к их числу следует отнести согдийские колонии. [97]
Периэгеса Сериндии. ^
История согдийского проникновения в Центральную Азию показывает, что колонизация шла вдоль трасс вековых торговых путей, связывавших Китай со странами Запада. Путь на запад вёл от Чанани к переправе через Хуанхэ у Ланьчжоу, по Лун-ю и Хэси, вдоль северных отрогов Наньшаня, через оазисы Лянчжоу, Ганьчжоу, Сучжоу, Гуачжоу, к западной окраине Великой стены в Юймыньгуане — «Заставе Яшмовых ворот». [98] В Гуачжоу единая артерия разветвлялась; окаймляя с севера и с юга пустыню Такла-Макан, через тяжёлые барханные пески пролегали три главные караванные тропы: а) северная — через Иву (Хами), Гаочан (Турфан), Бэйтин (Бешбалык), Шихо — долину р. Или; б) средняя — от Гаочана к Агни (Карашар), Аньси
(Куча), Гумо (Аксу), откуда, через перевал Бедель, к южному берегу Иссык-Куля; в) южная — через Дуньхуан, Шаньшань, Юйтянь (Хотан), Согюй (Яркенд) — в Аланскую долину и Тохаристан. Существовал и другой вариант двух последних путей — с выходом в Сулэ (Кашгар) и, далее, в Фергану. [99]
По мнению В. Хеннинга и Г. Халуна, путь в Китай начал осваиваться согдийцами в IV-III вв. до н.э., задолго до путешествия Чжан-цяня в Западный край (138-126 гг. до н.э.) и первых караванов, посланных императором У-ди на Запад. [100] На всём протяжении пути постепенно возникали процветающие согдийские колонии, существовавшие по крайней мере до IX-X вв. [101] В собственно китайских городах и административных центрах (например, Чанани, Лянчжоу, Дуньхуане), как и в «тохарских» городах Восточного Туркестана, согдийцы селились большими обособленными общинами. Много купцов из Согда жило в Лянчжоу (Гуцзан, согд. Кс’’п). При взятии города императором Тай У-ди (439 г.) они были задержаны и лишь в 50-х годах выкуплены послами царя Согда. [102] Согдийская община в Дуньхуане насчитывала в начале IV в. н.э. около тысячи человек. [103] Большая согдийская община существовала во второй половине VIII в. в Чанани; им покровительствовал их могущественный единоверец — перешедший в манихейство уйгурский каган. [104] «Старые письма» показывают, что связь этих общин с метрополией не прерывалась. [105]
Кроме согдийских кварталов в китайских городах, существовали колонии другого типа — поселения, основанные и управляемые согдийцами. Китайские источники сохранили рассказ об одной из таких колоний — группе согдийских (поселений, основанных в 627-649 гг. вокруг Лоб-нора. [106]
Особенно ценные сведения о лоб-норской колонии содержатся в географическом справочнике IX в., найденном в Дунь-
хуане. При Суйской династии близ Лоб-нора, в области Шань-шань (Лоулань), был основан китайский город, покинутый после 618 г. «Кан Янь-тянь, великий вождь из царства Кан (Самарканд), пришёл на восток и поселился в этом городе. Его сопровождали многие ху, так что тут стало населённое место: оно также называлось город Тянь-хэ (значение названия — „связанные вместе [Кан Янь]-тянем”). Город со всех сторон окружала песчаная пустыня». [107] Вскоре Кан Янь-тянь основал близ Тянь-хэ ещё три укрепленных селения, одно из которых называлось Путаочэн — «Город винограда». [108] Уже одно это название говорит о том, что поселения согдийцев быстро обрастали пашнями и виноградниками. Очевидно, колонию, основанную на караванном пути одной из аристократических семей Самарканда, населяли в основном земледельцы и ремесленники.
Несколько ранее описанных событий «торговые» согдийцы, частично смешанные с местным населением, овладели Иву (Хами). Располагая тысячью «превосходных воинов», они были достаточно самостоятельны и в зависимости от обстоятельств признавали сюзеренитет то Китая, то тюрков, то теле. [109]
Дорога ветров. ^
Топография согдийских поселений в Центральной Азии позволяет выдвинуть гипотезу, которая, как нам представляется, могла бы раскрыть одну из причин жизнестойкости согдийских колоний в Ордосе. Путь от Дуньхуана до переправы через Жёлтую реку пролегал вдоль тибетской границы, в районе, который во второй половине VII в. из-за непрерывных тибетско-китайских войн перестал быть безопасным для караванов. Гарнизоны Великой стены прикрывали этот путь с севера, но именно на севере с 630 по 681 г. влияние империи было определяющим политическим фактором. В связи с этим возможно предположить, что наряду с маршрутом через Лянчжоу существовал ещё один караванный путь, который в новой европейской и американской географической литературе получил название «Дороги ветров».
Подробное описание «Дороги ветров» содержится в отчётах экспедиций Р. Эндрьюса и О. Лэттимора; часть этого маршрута прошёл в 1878-1879 гг. русский путешественник М.В. Певцов. Дорога пролегала по южной окраине Гоби, вдоль склонов Гобийского Алтая и Восточного Тянь-шаня. В XIX в. этот путь, начинавшийся близ северо-восточной границы Ордоса, в Куку-хото (Гуйхуачэн), являлся «прямым коммерческим трактом». [110] По измерению Лэттимора, путь от Куку-хото до Гучена в Восточном Туркестане (в 30 км к востоку от древнего Бешбалыка)
равен 1587 милям, т.е. почти не превышает по длине пути вдоль Наньшаня; караван Лэттимора затратил на дорогу около четырёх месяцев. [111] В то же время, по характеристике Эндрьюса, «дорога ветров — естественный путь в Туркестан, так как позволяет использовать подземные воды и прекрасные пастбища Алтая и обходит с севера Великое песчаное море». [112]
Караванная дорога по этому маршруту обозначена на тангутской карте XI в., изданной и интерпретированной Е.И. Кычановым. [113] В северо-западной части излучины Жёлтой реки дорога сворачивала в Ордос и вела в Центральный Китай. Путь через Ордос был самым удобным — до Юаньской династии крупнейшие центры империи и обе её столицы локализовались в провинциях, расположенных к югу и юго-востоку от Ордоса. Другое сообщение о пути через Ордос, относящееся в X в., содержится в письме семи буддийских наставников (ачарья) из Индии, направлявшихся в Китай через Шачжоу — Шофан. По дороге пилигримы были ограблены уйгурами и написали жалобу, доставленную китайскому наместнику в Шачжоу. [114]
Наконец, использование этого маршрута согдийцами в более позднее время отмечено в сообщении Джувейни (XIII в.) о г. Самарканде, расположенном в семи днях пути к северу от Бешбалыка. По мнению Бартольда, «это известие указывает на существование согдийской колонии в Западной Монголии». [115]
Учитывая приведенные выше соображения, не исключено, что северный путь в Китай существовал уже во второй половине VII в. Однако не «Дорога ветров», а иные причины оказал» решающее влияние на возникновение и судьбу согдийских колоний в северных районах Центральной Азии.
Т ю р к и. ^
Торговля шёлком. ^
Принято считать, что первые контакты между согдийцами и тюрками начались со времени завоевания последними Средней Азии, в 60-х годах VI в. Общность интересов в транзитной торговле шёлком способствовала прочности завязавшихся связей — тюркские ханы нашли покупателя для награбленного в Китае шёлка, а согдийские купцы при содействии каганов вывозили драгоценный товар в Иран и Византию.
Действительно, торговля шёлком приносила огромные доходы согдийским купцам; свою долю в виде налогов получали
и их тюркские сюзерены. Однако новые открытия ставят под сомнение безоговорочное определение этой торговли как «транзитной» — согдийцы вывозили в страны Запада не только китайские шелка, но и шёлковые ткани среднеазиатского производства; [116] более того, согдийские ткани были распространены и высоко ценились в Восточном Туркестане и Китае. [117]
Шелкоткацкое производство появилось в странах Западной Азии (Иран, Сирия) и в Египте ещё в первые века нашей эры, но его основой долгое время были импортируемые из Китая шёлк-сырец и шёлковая пряжа. [118] Прокопий Кесарийский пишет: «Платья из шёлка-сырца в Берите (Бейруте) и Тире, городах Финикии, выделывались издревле. Там издавна жили торговцы, хозяева мастерских и ремесленники, и отсюда товар распространялся по всей земле». [119] Искусство разведения шелковичного червя (шелкопряда) было заимствовано в Средней Азии из Хотана не ранее начала V в., [120] однако ещё до начала VI в. оно распространилось не только в Фергане и Согде, но и в Мервском оазисе и Гургане у юго-восточного побережья Каспийского моря. [121] В VI в. в Иране и Византии уже появляется свой шелк-сырец. По мнению иранского исследователя Таки Бахрами, Иран является родиной одного из видов шелковичного червя; [122] на возможность аборигенного происхождения шелковичного червя в Иране и Средней Азии указывал и Б. Лауфер. [123] Однако точных сведений о разведении там шелкопряда для получения грены и шёлка-сырца до V в. нет.
В VI в. шелкоткацкое производство Согда, развившееся в конце IV вв., [124] обеспечивалось местным сырьём. В VII-VIII вв. техника изготовления узорных шёлковых тканей достигла там значительных успехов, [125] но уже в VI в. производство шёлка
настолько выросло, что сбыт превратился для согдийцев в острейшую проблему. Это обстоятельство в значительной мере объясняет настойчивость, с которой глава тюрко-согдийского посольства Маниах добивался торгового соглашения в Ктезифоне и Константинополе. [126] В одной из своих неопубликованных работ Бартольд отмечает, что Византия, как и Иран не испытывала острой нужды в согдийском шёлке, но была заинтересована в союзе с тюрками против персов. [127] Именно этот аспект внешней политики константинопольского двора и стремились использовать согдийцы для заключения торгового соглашения. Связи с согдийцами после распада Тюркской империи в 603 г. сохранил не только Западнотюркский каганат, контролировавший большинство государств Средней Азии. Начало VII в. отмечено ростом влияния согдийцев в Восточнотюркском каганате. Более того, есть основание полагать, что контакты между согдийцами и тюрками установились задолго до образования каганата. Однако, чтобы наметить первые этапы тюрко-согдийских связей, необходимо пересмотреть сложившиеся пpедставления о происхождении племени тÿрк и его ранней истории.
Тюркские легенды. ^
Наряду с собственно историческими свидетельствами о ранней истории племени тÿρк, основанными на повседневных официальных записях («ежедневных хрониках») и текстах документов, в Чжоу шу, Бэй ши и Суй шу воспроизведены две племенные генеалогические легенды, записанные со слов тюркских информаторов; наиболее полно текст легенд сохранён в Чжоу шу, где отмечается, что легенды рассказаны разными лицами, очевидно, в разное время. Анализ сообщений обеих легенд показал имеющуюся в них реалистическую основу, историографическая ценность которой в настоящее время представляется несомненной. [128]
Согласно первой легенде, предки тюрков, жившие на краю большого болота (по Бэй ши и Суй шу — на правом берегу Си хай — «Западного моря»), [129] были истреблены воинами соседнего племени (по переводу Б. Огеля — «воинами государства
Линь», которых он отождествляет с одним из сяньбийских племён). [130]
В живых остался лишь изуродованный врагами десятилетний мальчик, которого спасла от голодной смерти волчица, ставшая его женой. Скрываясь от врагов, в конце концов убивших и мальчика — последнего из истреблённого племени,— волчица бежит в горы севернее Гаочана (Турфанский оазис).
Там, в пещере, она рожает десятерых сыновей, отцом которых был спасённый ею мальчик. Сыновья волчицы женятся на женщинах из Гаочана и создают свои роды; один из сыновей носит имя Ашина, и его имя становится именем его рода. Ашина, который оказался способнее своих братьев, стал вождём нового племени. Впоследствии число родов увеличилось до нескольких сот. Вождь племени, один из наследников Ашина, Асянь-шад [131] вывел потомков волчицы из гор Гаочана и поселил их на Алтае (Циньшань), где они становятся подданными жуань-жуаней, добывая и обрабатывая для них железо.
На Алтае племя принимает наименование тÿрк, которое согласно легенде, связано с местным названием Алтайских гор. [132]
По второй легенде, предки племени тÿрк происходят из владения Со, которое локализуется Н.А. Аристовым в районе
впадения р. Лебеди в р. Бию, на северных склонах Алтая. [133] Глава племени, Абанбу, имел семнадцать братьев, один из которых, Ичжинишиду, назван «сыном волчицы». Владение Со было уничтожено врагами, а спасшиеся роды рассеялись. Благодаря сверхъестественным способностям «сына волчицы» Ичжинишиду его род оказался в наиболее благоприятном положении. Один из его сыновей стал «белым лебедем», что, по толкованию Н.А. Аристова, должно означать р. Лебедь. [134] Другой сын основал владение Цигу, [135] расположенное между реками Афу и Гянь (Абакан и Кем, т.е. Енисей). [136] Третий сын правил на р. Чжучже, а старший сын, Нодулу-шад, поселился в Цзяисы Чжучжеши (вариант: Басычусиши). [137] К роду Нодулу-шада присоединился и собственный род Абанбу. Нодулу-шад имел десять жён, сыновья которых носили родовые имена матерей. [138] Сыном его младшей жены был Ашина. После смерти Нодулу-шада его сыновья решили, что вождём племени станет тот из них, кто окажется более сильным и ловким, чем другие. Победил в состязании Ашина, который, став вождём, принял имя Асянь-шад. [139] Ему наследовал его сын или племянник Туу. Сыда Туу — Тумынь, Бумын рунических текстов, стал основателем каганата. [140]
Автор раздела о тюрках в Чжоу шу отмечает, сравнивая обе легенды: «Хотя это сообщение отличается от другого (т.е.
от первой легенды. — С.К.), они совпадают в том, что тюрки происходят от волчицы». [141] Однако этим не ограничивается сходство обоих вариантов генеалогического мифа тюрков. И в той и в другой легенде говорится о гибели племени (владения), к которому принадлежали отдалённые предки тюрков, о бегстве (расселении) того (тех), кто спасся, о первоначальном десятиродовом составе племени (в одном случае — по числу сыновей волчицы, в другом — по числу жён внука волчицы, сыновья которых носили родовые имена матерей), о выдающейся роли Асянь-шада в истории племени, о сравнительно позднем возникновении этнонима тÿрк, который принимает род ашина и подвластные ему роды. В остальном обе легенды фиксируют внимание на частных моментах этой эпопеи, различно освещённых в каждой из них. Возможно предположить, что здесь скорее следует видеть два варианта одной легенды, воспроизведённых разными хронистами, чем две самостоятельные по своему происхождению легенды.
Последние гунны. ^
Исторические сведения, относящиеся к «до-алтайскому» периоду существования племени тÿрк, наиболее полно переданы в Суй шу: «Предками туцзюэ были смешанные ху Пинляна. Их родовое прозвание было ашина. Когда северовэйский император Тай У-ди уничтожил Цзюйцюй (439 г.), Ашина (вождь племени) с пятьюстами семей бежал к жу-жу (жуань-жуаням). Они (племя ашина) жили из рода в род у гор Циньшань (Алтай) и занимались обработкой железа» (Суй шу, цз. 84). [142] Сообщение Суй шу тесно связывает раннюю историю племени тÿрк (ашина) с историей позднегуннских государств, существовавших на территории Китая в 308-460 гг. [143]
После распада Ханьской империи (206 г. до н.э. — 220 г. н.э.) во внутренние районы Китая началось массовое переселение варварских племён — гуннов (преимущественно тюркоязычные племена), [144] сяньби (конгломерат тюркоязычных и
монголоязычных племён), [145] ди и цянов (тангуто-тибетские племена), [146] цзе (одно из ираноязычных юечжийских племён). [147]
Только между 276 и 289 гг. в провинции Хэбэй, Шаньси и Шаньси переселилось более 400 тыс. гуннов и сяньби; в Гуаньчжуне поселилось более 500 тыс. ди и цянов, что составило половину населения этого района. [148] Переселившиеся в Китай племена сохранили свою военную и племенную организацию, свой образ жизни, язык и обычаи, хотя сильнейшее китайское влияние на их общественный строй и культуру несомненно; они активмо участвовали в политической (борьбе, происходившей в Китае, а в начале IV в. выступили как самостоятельная сила.
В 308 г. шаньюй гуннских племён Шаньси Лю Юань, носивший до 304 г. титул князя Хань, провозгласил себя императором. [149] В 311 г. его сын Лю Цун осадил столицу Цзиньской империи — Лоян. Драматические события, последовавшие за взятием города, нашли отражение в одном из интереснейших
документов, написанном очевидцем, — письме согдийского купца Нанайвандака. [150]
Вскоре Цзиньская империя (280-316 гг.) перестала существовать, и лишь на юге страны, в бассейне Янцзы, полководец Сыма Жуй удержал власть и основал династию Восточная Цзинь (317-420 гг.). Созданная Лю Юанем династия Раннее Чжао (316-329 гг.) была уничтожена юечжийским племенем цзе (династия Позднее Чжао, 319-350 гг.). На территории Северного Китая возникло несколько эфемерных варварских государств, находившихся в состоянии постоянной войны друг с другом. Время с 304 по 439 г. в традиционной китайской историографии получило название периода «шестнадцати варварских государств пяти северных племён». [151]
Племя ашина. ^
В конце IV в. усилилось одно из сяньбийских племён на северо-востоке Китая — тюркоязычные табгачи (китайское тоба, древнетюркское tabgač, греческое Ταυγάστ, арабское ![]() тамгадж). [152] В 386 г. их вождь Тоба Гуй основал династию Северное Вэй (386-532 гг.), объединившую под своей властью весь Северный Китай (439 г.). [153] К концу V в. династия и племя табгач почти полностью ассимилировались в китайской этнической среде. В рунических надписях этим именем называлось коренное население Китая. В 431-439 гг. вэйский император Тай У-ди (424-452) овладел двумя последними гуннскими государствами на территории Китая — царством Ся (407-431 гг.) в Шаньси и Пиньляне и царством Лян (401-439 гг.) в Хэси. [154] С этими двумя царствами и связано первое упомина-
тамгадж). [152] В 386 г. их вождь Тоба Гуй основал династию Северное Вэй (386-532 гг.), объединившую под своей властью весь Северный Китай (439 г.). [153] К концу V в. династия и племя табгач почти полностью ассимилировались в китайской этнической среде. В рунических надписях этим именем называлось коренное население Китая. В 431-439 гг. вэйский император Тай У-ди (424-452) овладел двумя последними гуннскими государствами на территории Китая — царством Ся (407-431 гг.) в Шаньси и Пиньляне и царством Лян (401-439 гг.) в Хэси. [154] С этими двумя царствами и связано первое упомина-
ние племени ашина в китайской историографической литературе. [155]
Проникновение гуннов в Пиньлян и Хэси началось в первой половине II в. до н.э. Оттеснив на запад, в Семиречье и Среднюю Азию, автохтонное население — юечжей и усуней, — гунны, однако, не удержались на захваченной территории — начавшаяся в годы правления У-ди (140-87 гг. до н.э.) китайская колонизация Хэси и бассейна Тарима вынудила их отступить на север. [156]
Миграция юечжийских и усуньских племён не была полной — ещё в V в. н.э. некоторые из них упоминаются в пределах древней племенной территории. [157] В 25-55 гг. н.э. в Хэси под защиту Великой стены бегут многие роды разгромленных гуннами динлинов, ухуань и сяньби. [158] Массовое переселение гуннских племён в этот район началось в 265 г., когда «на границе за Великой стеной (роды) Дашуй, Сайни, Хэнаньские и другие, 20000 с лишком семейств приняли (китайское) подданство. Император, приняв их, отправил на местожительство в Хэси под древний город Иян, и затем снова (они) смешались с цзиньскими людьми. Затем в Пинян, Сихэ, Тайюань, Синьсин, Шандин, Лопин, во всех округах не было (округа), где не было бы гуннов». [159]
После распада Цзиньской империи в Хэси и Гаочане утвердилась китайская династия Раннее Лян. В 376 г. Северный Китай на несколько лет был объединён династией Раннее Цинь, но уже в 385 г. полководец этой династии Люй Гуан создал в Хэси независимое царство Позднее Лян (385-403 гг.), протекторат которого распространялся на Гаочан и некоторые другие оазисы Таримского бассейна. [160] К началу V в. гунны Ордоса, возглавленные племенем хэлянь, захватили северную часть Шэньси и Пиньлян. Их вождь, Хэляньбобо, создал здесь царство Ся (407-431 гг.), последний государь которого погиб в борьбе с сяньбийским племенем тугухунь, а земли были захвачены вэйским императором Тай У-ди. Племя хэлянь и примыкавшие к нему гуннские племена частью подчинились табгачам, частью бежали на запад, в Хэси, где в 397-401 гг. гуннским князем Цзюйцюй Мэнсюнем была основана династия Северное Лян (территория Хэси и Гаочан). В 439 г. Тай У-ди захватил Хэси, но двое из сыновей Мэнсюна — Ухой и Аньчжоу — с 10 тыс. семейств бежали в Шаньшань (район Лобнора), а затем в Гаочан, где, опираясь на союз с жуань-жуанями, продержались до 460 г. В 460 г. этот союз был нарушен; по сообщению «Цзычжи тунцзянь», «жуань-жуани напали на Гаочан, убили Цзюйцюй Аньчжоу и уничтожили род Цзюйцюев». [161]
Сведения о связях племени ашина с гуннскими племенами Пиньляна и Хэси в сопоставлении с тюркскими генеалогическими легендами делают весьма вероятным предположение, что это племя иммигрировало в Ганьсу после 265 г., в период массового переселения за Великую стену гуннских и зависимых от гуннов племён Центральной Азии и Южной Сибири. Возможно, что до переселения в Пиньлян и Хэси племя населяло район Си хай (низовья р. Эдзин-гол), как об этом свидетельствует одна из тюркских генеалогических легенд. За время обитания в Пиньляне и Хэси племя ашина восприняло в свой состав новый этнический компонент автохтонного некитайского и негуннского населения страны («смешанные ху»; ср. мотив женитьбы на турфанских женщинах в первой легенде). После разгрома государства Цзюйцюев в Хэси ашина вместе с Ухоем и Аньчжоу бежали в Гаочан, где вскоре (после 460 г.) попали под власть жуань-жуаней и были переселены к южным отрогам
Алтая. Согласно обеим легендам, только после переселения на Алтай племя приняло наименование тÿрк, а старое название племени стало династийным именем правящего рода.
Турфанское наследство. ^
Предложенная реконструкция ранней истории племени ашина (тÿрк) позволяет наметить новый подход к решению проблемы начальных контактов этого племени с индоевропейским населением Восточного Туркестана и Западного Китая. В течение первого периода своей истории — ганьсуйско-гаочанского (III в. н.э. — 460 г.) — предки ашина обитали на территории, где преобладали иранские и «тохарские» языки. Именно здесь возникает само племя ашина, этническое смешение которого с автохтонным населением района отмечено и китайской историографией, и тюркскими генеалогическими легендами. В этой связи интересны лексические реликты в языке ашина, точно датируемые временем до образования каганата. К их числу относятся название тотема ашина — волка, два титула, которые носили предки основателя каганата Бумыня, и сам этноним ашина.
Китайские источники сохранили одно слово из языка гуннского племени хэлянь — предков ашина: фули, тюрк, böri «волк». [162] Ещё В. Бангзаметил, что «слово böri не может быть разъяснено с помощью тюркологических средств». [163] Но уже к этому времени были известны индо-иранские прототипы древнетюрк. böri: согд. wyrk, авест. vəhrka, древнеперс. vŗkäna, хотано-сакское birgga, осетинское (resp. аланское?) bīräγ, beräγ. [164]
Первый вождь ашина, с именем которого связано, по одной традиции, само образование племени, а по другой — переселение племени из Восточного Туркестана на Алтай, Асянь, носил титул šad; титул его сына, Туу, также верховного вождя ашина, был jabγu. К настоящему времени иранские этимологические связи обоих титулов достаточно разъяснены; известны также их юечжийские (кушанские) и эфталитские прототипы: согд. ‘xsyd в первом случае, кушанское (сакское) yavuga (< yam- «предводительствовать, возглавлять») — во втором. [165]
Весьма интересна, хотя вряд ли может быть сейчас решена до конца проблема происхождения самого имени ашина. П. Будберг хочет видеть здесь монгольское *ar činoa (činġa) «десять волков», однако его реконструкция филологически неоправданна. [166] Необоснованно и сближение этнонима ашина с этнонимом
усунь. [167] Возможно, имя ашина выступает, как полагает З.В. Тоган, в родовом имени хазарского Тархан-хакана, отмеченном «Худуд ал-’алам» в форме ![]() асана (собственно, в тексте
асана (собственно, в тексте ![]() ; предполагается lapsus calami). [168] He менее вероятной формой этнонима нам представляется имя одного из тюркских полководцев халифа Мутасима, Ашнас ат-Турки. [169] Однако для объяснения этимологии слова ашина эти сближения вряд ли имеют значение; они лишь подтверждают уже установленную близость китайской транскрипции слова к его возможному произношению в древнетюркском языке. [170]
; предполагается lapsus calami). [168] He менее вероятной формой этнонима нам представляется имя одного из тюркских полководцев халифа Мутасима, Ашнас ат-Турки. [169] Однако для объяснения этимологии слова ашина эти сближения вряд ли имеют значение; они лишь подтверждают уже установленную близость китайской транскрипции слова к его возможному произношению в древнетюркском языке. [170]
Особый интерес вызывают обстоятельства, при которых возникло имя ашина. Тюркская генеалогическая традиция свидетельствует, что ашина было родовым именем матери основателя племени. В то же время другой вариант этой традиции указывает на местное, восточнотуркестанское происхождение вождя племени ашина по материнской линии. Как уже отметил С.В. Киселёв, указание на наследование имени по роду матери заслуживает «особого доверия». [171] Но именно это указание заставляет искать исходную форму имени ашина не в тюркских языках, а в иранских и «тохарских» диалектах Восточного Туркестана. В качестве одного из гипотетических прототипов имени можно выделить сакское āşana «достойный, благородный», отраженное в агнийском āşām, кучанском aşām, [172] но окончательное решение вопроса, видимо, ещё преждевременно.
Круг иранских, тохарских и индийских заимствований даже в языке рунических надписей с их сравнительно небольшим словарем отнюдь не ограничивается приведёнными примерами, но другие заимствования не могут быть датированы столь же точно доалтайским периодом жизни племени ашина. Следует всё же упомянуть, что, как установил Г. Шедер, наименование китайцев в древнетюркских надписях — tabγač, несомненно восходящее ко времени ранее VI в., заимствовано тюрками через посредство согдийцев и в согдийском языковом оформлении. [173]
Иной путь проделало название Восточно-римской империи в китайском языке — Фулинь, известное китайцам уже в 550 г. Оно восходит к парфянскому и согдийскому *Frōm, но заимство-
вано через тюркское Purum, ср. манихейско-согдийское Brwm’yk. [174] Приведённые факты позволяют утверждать, что задолго до завоевания Средней Азии тюрками существовали тесные контакты между ними и индоевропейским населением Восточного Туркестана, в том числе и согдийцами, контакты, более непосредственные в тот период, чем тюрко-китайские связи. Недаром первым послом китайского двора, прибывшим в 545 г. в ставку Бумыня, был согдиец из Ганьсу, Аньнопанто, [175] и, хотя тюркское название письма — bitig — имеет китайскую этимологию, [176] само письмо было заимствовано у согдийцев.
Если в эпоху, предшествующую концу I тысячелетия до н. э. — началу I тысячелетия н. э., Восточный Туркестан и северо-западная часть Ганьсу (Хэси), судя по имеющимся сейчас материалам, были областью индоевропейского этногенеза, то в первой половине I тысячелетия н.э. эта область становится также одним из центров тюркского этногенеза. Этно-культурное влияние Китая осуществлялось лишь в русле военно-колонизационной деятельности, с учётом постоянно меняющейся политической структуры края, и не оказало значительного воздействия на ход индоевропейского (иранского) и тюркского этногенеза. Масштабы и характер происходивших здесь явлений в течение значительного исторического периода определялись в основном общим ходом исторического процесса в Средней и Центральной Азии.
Таким образом, в настоящее время возможно выделить два основных этапа ранней истории племени тÿрк (ашина): ганьсуйско-гаочанский и алтайский. Представляется достаточно оправданным отказ от традиционной реконструкции ранней исто-
рии племени, согласно которой все события, имевшие место до образования Тюркского каганата, связаны только с территорией Алтая и Южной Сибири, а специфические особенности социальной организации и культурные традиции тюркского общества не выходили за пределы норм и представлений, носивших строго региональный характер. Эта гипотеза построена на вероятном толковании лишь одного из вариантов тюркской легенды и вследствие этого имеет недостаточное обоснование. Не отрицая возможности связи племени ашина с Алтаем и Сибирью до момента миграции в район к югу от Великой стены, мы должны отметить, что лишь после 460 г. в предгорьях Южного Алтая складывается та группировка племён, возглавленная вождями ашина — Асянь-шадом, «великим ябгу» Туу и Бумынем (460-553 гг.), — которая в 551-555 гг. нанесла сокрушительный удар Жуань-жуаньскому каганату.
Согдийцы в каганате. ^
Первые известия о согдийцах при дворе тюркских каганов в Монголии относятся ко времени правления Дулань-кагана (588-599). [177] В год вступления кагана на престол в Китае была уничтожена династия Чэнь и страна окончательно объединена под властью дома Суй. Уцелевшие члены свергнутой династии и их приближённые ещё пытались взять реванш. Один из чэньских вельмож, Ян Цинь, бежал в тюркскую ставку (593 г.), где вместе с другими китайскими эмигрантами рассчитывал воспользоваться покровительством жены кагана, чэньской принцессы Да-и, и добиться осуществления своих планов. Расчёты Ян Циня оправдались — принцесса приняла участие в его деле, но склонить кагана к активной помощи заговорщикам она поручила своему фавориту, согдийцу Ань Суй-цзя, одному из приближённых Дуланя. Суйский посол Чжан-сунь Шэн сумел предотвратить неблагоприятное для новой династии развитие событий. Он потребовал выдачи Ян Циня. Каган ответил, что не знает такого человека. Подкупив охрану Ян Циня, Чжан-сунь Шэн схватил главу заговора и представил его кагану; одновременно он обвинил китайскую жену Дуланя в неверности. Ань Суй-цзя и чэньские вельможи были выданы послу и отправлены в Китай, а принцесса Да-и вскоре убита. [178]
Последующие события, относящиеся ко времени правления Шиби-кагана (609-619), показали, что высокое положение согдийца в каганской ставке и занятая им политическая позиция не случайны. При Шиби наметился подъём политического могущества Восточнотюркского каганата. Пытаясь предотвратить усиление опасного северного соседа, суйский двор прибег к хорошо проверенной в предшествующие годы тактике подкупа
и противопоставления друг другу членов каганского рода. Младший брат Шиби, Чжиги-шад неожиданно для себя получил из Чанани почётный титул «южного кагана» и предложение стать зятем императора. Чжиги отказался и сообщил обо всём брату. Шиби-каган по достоинству оценил китайский план и ждал лишь удобного случая, чтобы отомстить. [179] Но, прежде чем такой случай представился, китайская дипломатия нанесла Шиби ещё один удар.
Центральной фигурой во внешней политике Китая стал в 607 г. Пэй Цзюй, осуществивший в 593 г. план окончательного устранения принцессы Да-и. [180] Пэй Цзюй, тогда наместник Западного края, спровоцировал войну между теле и тугухунями и распространил китайский протекторат на весь Восточный Туркестан. Здесь он делал всё от него зависящее для поощрения согдийской торговли, но именно согдийцы оказались его опаснейшими политическими противниками в Монголии. [181] После неудачи с Чжиги-шадом Пэй Цзюй обратился к императору со следующим донесением: «Тюрки сами по себе простодушны и недальновидны, и можно внести между ними раздор. К сожалению, среди них живёт много ху (согдийцев), которые хитры и коварны; они научают и направляют (тюрков)! Как я слышал, особенно много коварных планов у (согдийца) Шишухуси, и он пользуется расположением Шиби-кагана. Я прошу дозволения погубить его хитростью». [182] Император одобрил замысел Пэй Цзюя. К Шишухуси был послан лазутчик, сообщивший ему о готовящейся в крепости Ма-и (Шаньси) распродаже ценных вещей из императорской казны: «Кто первый придёт, тому достанутся лучшие товары!» Пэй Цзюй не ошибся — бросив все дела, даже не испросив разрешения кагана, Шишухуси со всеми своими многочисленными сородичами кинулся в Ма-и. Там его ждала засада и казнь. Пэй Цзюй сообщил кагану о мнимой измене Шишухуси, но Шиби хорошо знал своего советника и хорошо знал Пэй Цзюя. [183]
Возможность отомстить представилась летом 615 г., когда император Ян-ди совершал инспекционную поездку по северным провинциям. Шиби с большим конным отрядом перешёл границу и занялся увлекательной охотой на суйского государя. Лишь измена в тюркской ставке спасла Ян-ди; он успел укрыться в крепости Яймынь. Шиби осадил крепость, и отчаявшийся император уже ждал конца, когда подошедшие войска и угроза нападения теле вынудили кагана покинуть империю. [184]
Если во времена Шиби отмечается многочисленность и влиятельное положение согдийцев среди восточных тюрков, то при последнем кагане первого Восточнотюркского каганата Хели (620-630) их влияние ещё более возросло. Внешнеполитическая обстановка была исключительно благоприятна для Хели в начале его царствования. В 618 г., после опустошивших страну внутренних войн, в Китае воцарилась династия Тан. Новые правители империи прилагали все силы для укрепления своей власти в государстве и восстановления разрушенного хозяйства. Хели-каган, «полагаясь на стяжание, собранное отцом и старшим его братом, имея многочисленную и отличную конницу... возносился гордостью. Стоя на ступень выше всех кочевых народов, он с презрением смотрел на Срединное государство, дерзко изъяснялся и на письме и на словах; производил большие требования. Император в то время занят был восстановлением порядка в империи, почему должен был унижаться пред ханом и делать большие пожертвования; но несмотря на большие дары и награды, хан ещё был недоволен и предъявил неограниченные требования». [185]
В течение 620-629 гг. Хели и его военачальники организовали 67 нападений на различные районы Северного Китая. [186] В сентябре 626 г. каган во главе 100-тысячной армии появился под стенами Чанани. Лишь мужество и находчивость императора Тайцзуна [187] — крупнейшего политического деятеля и полководца средневекового Китая — спасли столицу. Хели заключил мир и покинул империю. [188] Но уже в следующем году наступил перелом в соотношении сил. Подъём хозяйства страны и реорганизованная армия позволили Тайцзуну начать подготовку к войне с тюрками на их собственной территории. В то же время каганат испытывал серьёзные лишения — джуты 627-629 гг. привели к падежу скота и голоду. [189] Хозяйственные трудности дали толчок к обострению социальных и внутриполитических противоречий. Начались восстания и переход на сторону империи подчинённых кагану племени [племён], прежде всего телеских (огузских). Но самым страшным для Хели оказалась потеря поддержки собственного народа.
Давно минули времена, когда всё племя тÿрк, стоявшее на высшей ступени варварства, видело в грабительских походах нормальный и доходный промысел. Восьмидесятилетний путь исторического развития созданного тюрками государства привёл к глубоким качественным изменениям общества. Абсолютная
власть военного вождя племени переросла в деспотическую власть кагана — правителя государства. Каган руководствовался в политике интересами аристократической верхушки, в значительной мере оторвавшейся от своих корней в роду и племени. Война стала выгодной только для правящего класса каганата, которому доставалась львиная доля добычи и дани. Основная масса населения жила доходами скотоводческого хозяйства, часть продукции которого обменивалась на продукты земледелия и ремесла. Иногда Хели, считаясь с насущными нуждами своих подданных, прекращал на время грабёж и обращался к императору с просьбой разрешить меновой торг. [190] Однако такие события были исключением, постоянной была лишь война. Между тем рядовые кочевники были заинтересованы не в походах за рабами и драгоценностями, не в дани шёлком, а в мирной меновой торговле.
Непрерывные войны требовали бесперебойного снабжения огромной армии кагана, постоянного ремонта конного состава и многих других затрат. В результате Хели, не довольствуясь данью и добычей, усилил обложение податями и сборами собственного народа. Подати оказались особенно тяжёлыми в годы джута. [191] Противоречие между народными массами и правящей верхушкой каганата ярко выразилось в изменении управления. Хели, следуя по пути, проложенному его предшественниками, перешёл к формам и методам осуществления власти, свойственным социально более развитым обществам. Не полагаясь на старые органы управления, представители которых были в какой-то степени связаны родо-племенными традициями, Хели заместил должностных лиц, занимавших ключевые посты гражданского управления, китайцами и согдийцами. Наибольшим доверием пользовались согдийцы, так как лояльность китайцев в условиях войны с империей не всегда могла быть гарантирована.
В глазах народа обострение социального неравенства и классового угнетения было непосредственно связано с переходом реальной власти в руки согдийцев. Недовольство угнетённых и обездоленных проявлялось в ненависти к чужеземцам, на которых опирался каган. Внутренние противоречия в каганате казались столь очевидными, что стали темой докладных записок китайских пограничных чиновников. Так, в докладе трону, датированном 629 г., правитель Дайчжоу Чжан Гун-цзинь в числе важнейших причин неизбежного поражения Хели отмечает следующие: «Хели отдалился от своих тюрков и дове-
рился ху (согдийцам); однако эти согдийцы ненадёжны. Когда мы пошлём большую армию, они предадут его... Очень много китайцев бежало на север (к тюркам). Теперь, как я слышал, они собрались и укрепились в естественных укрытиях в горах. Когда императорская армия перейдёт границу, она получит поддержку (этих китайцев) ». [192]
Материал, содержащийся в подобных мемориалах, был резюмирован в Тун дянь, законченном в 801 г., а затем — в обоих Тан шу. Ввиду исключительной важности сообщаемых сведений как для понимания социальной и политической обстановки в каганате, так и для оценки роли согдийцев в происходивших событиях приведём обе версии.
Версия Тун дянь (цз. 197) совпадает с версией Цзю Тан шу: «Хели постоянно действовал так, как это было выгодно ху (согдийцам), и пренебрегал людьми своего собственного племени. Ху были корыстолюбивы, надменны и ненадёжны. Вследствие этого число законов и предписаний умножилось, войны стали ежегодными, а потому люди его страны терпели трудности и лишения. Многие племена отказали в повиновении. К тому же годы оказались столь неблагоприятными, что число скота сократилось и в стране наступил великий голод. Так как Хели не смог покрыть своих расходов, он обложил племена высокими налогами. Из-за этого жизнь его подданных стала невыносимой, и вскоре они взбунтовались» (цз. 194 А). [193]
Версия Синь Тан шу (цз. 215А): «Тюрки имели простые обычаи и были по природе простодушны. Хели имел при себе одного китайского учёного, Чжао Дэ-яня. Он уважал его ради его талантов и питал к нему полное доверие, так что Чжао Дэ-янь стал мало-помалу управлять государственными делами. Кроме того, Хели доверил правление ху (согдийцам), удалил от себя своих сородичей и не допускал их к службе. Он ежегодно посылал войска в поход и нападал на китайские области, так что его народ не смог более переносить эти тяготы. Ху (согдийцы) были корыстолюбивы и беспощадны, но часто изменчивы и ненадёжны, так что предписания и приказы постоянно изменялись. Год за годом (в стране) был великий голод. Налоги и сборы стали невыносимо тяжёлыми, и племена всё более отвращались от (Хели)». [194]
Последствия не замедлили сказаться. В 629 г. императорская армия, которой командовал президент Военной палаты Ли Цзин, разгромила Хели в Шаньси. Все девять огузских племён перешли на сторону империи. Племянник Хели — Тули и
несколько его ближайших родственников и военачальников бежали в Китай. [195] Ли Цзин продолжал преследование Хели. В начале 630 г. он подослал к главе согдийцев в каганате, «великому вождю» Кан Су-ми своего лазутчика, чтобы побудить того сдаться. [196] Предвидение Чжан Гун-цзиня оправдалось — в тяжёлый момент Кан Су-ми, предал Хели и, захватив, чтобы выдать Ли Цзину, членов императорского дома Суй, нашедших убежище в каганате, прибыл со всеми своими соплеменниками в лагерь императорской армии. [197] Вместе с самаркандцем Кан Су-ми пришёл сдаваться и другой фаворит Хели — бухарец Ань Ту-хань, который привёл с собой 5 тыс. соплеменников; его семья переселилась в каганат из Кучи задолго до описываемых событий — ещё отец Ань Ту-ханя, Ань У-хуань служил тюркским каганам и носил титул «сылифа» (эльтебер). [198]
Зимой 630 г. Ли Цзин покончил с Хели. Схваченный во время бегства, каган был доставлен в императорский дворец. Тайцзун, упрекая поверженного врага в свершённых им преступлениях против Китая, не забыл поставить ему на вид и преступления против собственного племени: «Надеясь на свою силу, ты не прекращал войны и тем возбудил ропот в своём народе!». [199] Пожалованный чином генерала императорской гвардии, Хели не мог забыть прошлое — «он долго был задумчив и печален; пел со своими домашними заунывные песни и проливал слёзы». В 634 г. каган умер; труп его, по тюркскому обычаю, сожгли, а над могилой на берегу р. Ба насыпали курган. [200] Так завершилась история первого Тюркского каганата.
Начало ордосских колоний. ^
Число согдийцев, сдавшихся Ли Цзину в 630 г., оказалось очень значительным. Китайский историограф рассматривает их как одно из племён каганата («племя ху»). Вероятно, Хели или его предшественники закрепили за ними определённую территорию в Монголии, где были созданы поселения; по крайней мере, среди племён, земли которых входили в
удел племянника Хели — Тули-кагана, упомянуты и согдийцы. [201]
После 630 г. согдийцы были поселены в Ордосе. [202] Кан Су-ми, за которым Ли Цзин признал право главенства над сдавшимися ху, стал правителем области Бэй-ань, Ань Ту-хань — префектом округа Вейчжоу; впоследствии внук Ань Ту-ханя, Ань Сы-гун, сохранил должность префекта одного из «шести округов ху». Поначалу китайские власти рассматривали сдавшихся согдийцев и тюрков как части одного народа. Когда в 639 г. Тайцзун сделал попытку восстановить вассальное тюркское государство между Гоби и Жёлтой рекой под главенством Ашина Сымо, он пожаловал тому титул кагана над «туцзюе и ху». Однако попытка оказалась неудачной, и в 644 г. Сымо, покинув своих разбегавшихся подданных, вернулся в Чанань. [203]
Постепенно согдийцы настолько освоили новые земли, что в 679 г. бывшие подданные и приближённые Хели-кагана отказались присоединиться к его восставшим наследникам. Китайская администрация высоко оценила поведение согдийцев в трудный момент, и в том же году районы их поселения были преобразованы в «шесть округов ху». В опасные для империи годы, когда Капаган опустошал северные провинции Китая, лояльность согдийцев стала важным фактором в обороне границы. Дважды — в 697 и в 702 гг. — они приняли на себя удары тюркской армии. Если в первом случае Ань Дао-май успешно отразил нападение, то разгром 702 г. был пережит чрезвычайно тяжело. Потери в людях оказались столь велики, что в 703 г. оставшихся в живых едва хватило для создания двух округов. Часть согдийцев, и среди них — старший сын Ань Дао-мая, Ань Сяо-цзи, были уведены в степь. [204] Оставшиеся в Ордосе пользовались полным доверием танского двора. Многие согдийцы заняли командные посты в китайской армии.
К сожалению, чрезвычайно трудно проследить судьбу согдийцев в возрождённом каганате. Китайские источники сохранили отрывочные и не всегда ясные сведения лишь о семьях Ань Лу-шаня, поставившего в 755 г. Танскую империю на край гибели, и Кан А-и Кюль-таркана, видного тюркского вельможи, согдийца по происхождению.
Дед Ань Лу-шаня — Ань И-янь со своими сыновьями Ань Янь-янем [205] и Ань Бо-цзюем переселился или был насильно переселён в каганат в конце VII в. из Лючена (Инчжоу); [206] возможно, его появление в каганате связано с киданьским походом Капагана. Не исключено, что в Инчжоу, на границе с киданями, существовала в это время согдийская колония; в 717 г., когда там ликвидировались последствия разгрома, учинённого Ли Цзинь-чжуном, согдийским купцам выделили место для поселения. [207] Сын Ань И-яня — Ань Янь-янь стал одним из военачальников тюркской армии и женился на девушке из аристократического рода Ашидэ; в 703 г. у них родился мальчик, названный согдийским именем Рохшан; китайские летописцы писали это имя Лу-шань. [208] В начале лет Кайюань (после 713 г.) Ань Лу-шань вместе со своим дядей Ань Бо-цзюем, двумя его сыновьями и сыном Ань Дао-мая — Ань Сяо-цзи бежит в Китай. Весьма вероятно, что это бегство было следствием репрессий, которые обрушил в 716 г. Кюль-тегин на приближённых Капаган-кагана. По предположению Пуллиблэнка, тогда погиб и отец Ань Лу-шаня. В Китае беглецов радушно встретил второй сын Ань Дао-мая — Ань Чэнь-цзи, вице-префект Ланьчжоу. [209] В дальнейшем Ань Бо-цзюй, его сыновья и Ань Лу-шань, быстро продвигаясь по служебной лестнице, достигли высокого положения в империи.
В 742 г., накануне полной ликвидации Восточнотюркского каганата, среди сдавшихся китайской армии тюркских вождей назван Кан А-и Кюль-таркан, согдиец из рода, служившего ещё Хели-кагану. Дед Кан А-и — Кан Янь был зятем одного из тюркских каганов, а отец служил Капагану и носил титул эльтебера; возможно, с этим титулом, который носили обычно племенные вожди, здесь связано главенство над согдийской колонией в каганате. [210] Сам Кан А-и, родившийся в 690 г., уже в 712 г. занимал пост советника Капаган-кагана, что скорее всего следует отнести за счёт положения его отца. Жена Кан А-и, согдиянка из фамилии Ши, принадлежала к семье, переселившейся в конце VII в. во Внутренний Китай из согдийской колонии под Турфаном; её дед и отец занимали командные посты в императорской армии. Как полагает Пуллиблэнк, в
716 г. Кан А-и бежал в империю, но потом вновь вернулся в Отюкен. [211]
Эти немногие известные сейчас факты подтверждают, что при Капаган-кагане и его преемниках согдийцы занимали видное положение в каганате, хотя вряд ли пользовались тем влиянием, какое имели при Хели. Тогда, в начале VII в., согдийцев неудержимо влекла в каганат исключительно благоприятная обстановка. Они успешно сбывали там свои товары, скупали обычные продукты скотоводческого хозяйства и охоты — шкуры, кожи, меха, которые после обработки в западных областях Китая издавна экспортировались в города Средней Азии. [212] Но не меньше, чем шкуры и меха, согдийцев привлекала возможность дёшево скупать ценности, награбленные в Китае. Этим объясняется охарактеризованная Пэй Цзюем позиция влиятельных согдийских советников из окружения каганов.
После стабилизации обстановки во втором Восточнотюркском каганате, не ранее конца VII в., какая-то часть согдийцев вновь появилась в Отюкенской черни. Кан А-и покинул Отюкен, когда каганат был в агонии, но согдийская колония там уцелела. При уйгурах положение согдийцев было едва ли хуже, чем при Хели. Через двадцать лет после бегства Кан А-и новые властелины центральноазиатских степей — уйгурские каганы — приняли манихейство; на их стелах высекались согдийские надписи, а на берегах Селенги согдийцы основали свой новый город — Байбалык.
С т р а н а А р г у. ^
Таты тюргешей. ^
Обращаясь к бегам и народу, Бильге-каган называет тех, для кого запечатлены на «вечном камне» его слова: köŋültäki sabymyn on oq oγlyŋa tatyŋa tägi buny körü biliŋ «сердечную речь мою вы (все), до сыновей десяти стрел и их татов, глядя на этот (памятник), ведайте!» (КТм, 12; БК, Хв15). Лишь в 1916 г. В. Томсен впервые разъяснил слова on oq и tat. «Десятистрельный народ» (on oq budun — КТм, 19; Тон., 19, 30) — «тюрки Западного каганата», а таты — их «подданные иностранного происхождения», «метеки». Основываясь на косвенных данных, Томсен отметил не только социальную, но и этническую семантику слова «tat». [213]
Окончательное подтверждение предположение Томсена находит в материалах древнейшего свода тюркской лексики — словаря Махмуда Кашгарского «Диван лугат ат-турк» (XI в.). Махмуд Кашгарский чётко определяет значение слова «тат» в известных ему тюркских языках: «Тат — у всех тюрков это каждый, кто говорит на иранском языке». [214] Далее Махмуд Кашгарский отмечает, что этим словом стали называть уйгуров и китайцев («тат-тавгадж»), «подобно тому как его употребляют в отношении иранцев. Такое употребление этого слова неверно». [215] Превращение слова «тат» в термин, обозначающий всё осёдлое население Средней Азии и Восточного Туркестана, — явление, как очевидно, новое во времена Махмуда Кашгарского. Этническое содержание термина для него ещё вполне определённо. Вместе с тем Махмуд Кашгарский цитирует тюркские пословицы, указывающие на зависимое положение татов, на их подчинение тюркским сюзеренам. [216]
Кошо-цайдамские памятники прямо указывают на зависимость «татов» от «сыновей десяти стрел». В начале VIII в. западные тюрки (тюргеши) владели территорией от долины Таласа до Алтая — Семиречьем и Джунгарией. «Татами» здесь могли быть названы только ираноязычные поселенцы-согдийцы.
Города Семиречья. ^
В 1893-1926 гг. Бартольд, опираясь на отрывочные сообщения Сюань Цзана, «Худуд ал-’алам» и словаря Махмуда Кашгарского, сформулировал гипотезу о согдийской колонизации Семиречья. [217] В 1936-1941 гг. работами Семиреченской археологической экспедиции, руководимой Бернштамом, в долинах Таласа, Чу и Или были открыты древние поселения и города, созданные согдийцами. [218] Археологические исследования послевоенных лет позволили определить время существования согдийских поселений, наметить основные периоды их развития. [219]
По уточнённой периодизации, начальный этап согдийской колонизации Семиречья может быть отнесён к V-VI вв. Основной приток согдийцев в Семиречье, особенно в Чуйскую долину, приходится на VII-VIII вв.; [220] поселения этого вре-
мени частично вскрыты раскопками. Это были большие города, не уступавшие по размерам другим раннесредневековым городам Средней Азии. [221] Их центральная часть состояла из цитадели и плотно застроенного шахристана. К шахристану примыкал рабад и обнесённая стенами территория усадебной застройки; укреплённые усадьбы — кёшки, окружённые садами и виноградниками, отстояли друг от друга на 50-100 м. Прилегающая местность, составлявшая пахотные земли жителей города, также была обнесена валами. [222]
О величине согдийских поселений говорят размеры Краснореченского городища, расположенного в 34 км на восток от г. Фрунзе. Центральные развалины городища простираются с востока на запад на 1500 м, с севера на юг — на 800 м. [223] Среди находок, обнаруженных при раскопках городища, — плоская ручка большого глиняного сосуда с согдийской надписью IX-X вв. [224] Не менее значительно Ак-Бешимское городище площадью около 95 га.
Раскопки 1953-1954 гг. заставили отказаться от выдвинутого Бартольдом и Бернштамом отождествления Ак-Бешимского городища с Баласагуном. [225] По удачному предположению Дж. Клосона, городище соответствует столице западнотюркских каганов — Суябу, [226] основанному согдийцами в V-VI вв. и дожившему до X в. [227] При раскопках на городище найдено 57 монет, литых от имени тюргешских каганов (VIII в.). Все монетные легенды выполнены на согдийском языке; по предположению О.И. Смирновой, монеты отливались в согдийских мастерских. [228]
Только в Чуйской долине в VI-X вв. существовало 18 крупных городов и большое число мелких поселений, основанных и населённых согдийцами. В городах жили также китайцы, [229]
сирийцы, [230] персы, [231] из века в век росло тюркское население, но, по крайней мере до IX-X вв., согдийцы оставались преобладающей частью населения семиреченских городов.
Первое описание городов Семиречья и их населения принадлежит китайскому путешественнику Сюань Цзану, посетившему этот район в 630 г.: «Пройдя более 500 ли на северо-запад от Прозрачного озера (Иссык-Куль — С.К.), прибыли в город Суй-е (Суяб). Этот город в окружности 6-7 ли. В нём смешанно живут торговцы из разных стран и ху (согдийцы). Земли пригодны для возделывания красного проса и винограда. Леса здесь редки, а климат ветреный и холодный. Люди одеваются в тканые шерстяные одежды. Прямо на западе от Суй-е находится несколько десятков одиночных городов, и в каждом из ник свой старейшина. Хотя они не зависят один от другого, но все подчиняются тюркам». Теми же словами характеризует Сюань Цзан другой крупный город Семиречья — Талас. Сюань Цзан резюмирует свои наблюдения: «Страна от города Суй-е до княжества Гэшуана (Кушания) называется Сули (Согд), её население также носит это имя». [232] Как очевидно, Сюань Цзан, показавший себя весьма тонким наблюдателем, не находил этнического различия между населением семиреченских городов и населением собственно Согда.
Описав одежду, внешний вид и письменность согдийцев, Сюань Цзан не слишком лестно отзывается об их обычаях — торговая предприимчивость, погоня за наживой претили буддийскому монаху, проповедовавшему отрешённость от мирской суеты. Однако автор «Записок о Западном крае» не преминул отметить одно чрезвычайно важное обстоятельство, сразу же вводящее читателя в круг повседневной жизни согдийских колонистов: «Тех, кто возделывает поля, и тех, кто преследует выгоду (купцов и ремесленников. — С.К.), — поровну». [233] Это свидетельство ясно указывает не только на торгово-ремесленный, но и на аграрный характер согдийских городов, что подтверждается и археологическими наблюдениями.
Социальный и политический статус согдийских колоний в Семиречье, их взаимоотношения с тюркским населением страны, равно как история их возникновения, расцвета и угасания, остаются почти совершенно неизученными. Ограниченность и гипотетичность тех немногих заключений, которые уже сделаны, предопределены крайней недостаточностью источников. Поэтому даже лапидарные сообщения древнетюркской руники, которые
можно связать с отрывочными сведениями согдийских, китайских, арабских, персидских и тибетских источников о согдийцах за пределами Согда, представляют несомненный интерес. Если термин «тат», так же как сообщение Сюань Цзана, указывает на зависимость согдийцев Семиречья от западнотюркских каганов, то сам факт их упоминания в речи, обращённой к «бегам и народу тюрков», к той части населения, из которой, судя по тексту, исключались элементы, стоящие на низших ступенях социальной лестницы, заставляет искать другие аспекты тюрко-согдийских отношений в Западном каганате.
Послы согдийцев. ^
В 51-53-й строках большой надписи в честь Кюль-тегина содержится перечень посольств, прибывших в 732 г. в орхонскую ставку Восточнотюркских каганов для участия в похоронах Кюль-тегина: (51) juγčy syγytčy qytañ tataby budun bašlaju (52) udar säŋün kälti tabγač qaγanta isji likän kälti bir tümän aγy altun kümüš kärgäksiz kälürti tüpüt qaγanta bölön kälti quryja kün batsyqdaqy soγd bärčäkär (? bärčälär) buqaraq ulus (ulys) budunda näŋ säŋün ογul tarqan kälti (53) on oq oγlym türgiš qaγanta maqrač (~ maqarač) tamγačy ογuz bilgä tamγačy kälti qyrqyz qaγanta tarduš ynanču čur kälti barq itgüči bädiz jaratyγma bitig taš itgüci tabγač qaγan čyqany čaŋ säŋün kälti.
«(51) (В качестве) плачущих и стонущих (т.е. для выражения соболезнования) пришли кидани и татабыйцы во главе с (52) Удар-сенгуном. От китайского кагана пришли Исьи и Ликен и принесли множество (букв.: десять тысяч) даров и бесчисленное (количество) золота и серебра. От тибетского кагана пришел бёлён. [234] Сзади (т.е. с запада), от народов, живущих в странах солнечного заката — Согд берчекер (? берчелер) букарак улус (улыс?), — пришли (послами) Нек-сенгун [235] и Огул-таркан. (53) От моих десятистрельных сыновей, [236] от тюргешского кагана пришли Макарач, [237] хранитель печати, и хранитель печати Огуз-Бильге. От кыргызского кагана пришел Тардуш Ынанчу-чур. (В качестве) соорудителя здания и камня с надписью, украшенного
резьбой, пришли чыканы [238] (или: пришел чыкан) китайского кагана и Чанг-сенгун». [239]
Наиболее загадочной в приведённом отрывке остается фраза soγd bärčäkär (? bärčälär) buqaraq ulus budunda näŋ säŋün oγul tarqan kälti. В.В. Радлов, которому принадлежит заслуга первого прочтения и первого перевода надписи в честь Кюль-тегина, правильно понял грамматическую структуру этого предложения, прочёл имена послов и слова ulus и budun; лишь слово buqaraq осталось непрочтённым. Два начальных слова фразы уверенно читались им как soγd bärčälär, но попытка обосновать тюркскую этимологию обоих слов (soγad bäräčilär «носители даров»?) оказалась неудачной и впоследствии не была поддержана ни самим В.В. Радловым, ни соавтором последнего варианта его перевода П.М. Мелиоранским. [240]
Вся фраза была правильно прочтена В. Томсеном, отождествившим, однако, понятия soγd и soγdaq. Одновременно Томсен предположил, что находящееся между soγd и buqaraq слово bärcälär также должно означать этническое имя какого-либо народа, возможно персов, и в связи с этой гипотезой принял чтение bärčäkär. [241] Такое чтение позволяла предположить плохая сохранность рунических знаков; начертания l2 и k весьма сходны. [242] Другим доводом против чтения bärčälär, где -lär- несомненный показатель множественного числа, Томсен считал отсутствие этого аффикса при этнических именах в той же надписи. [243]
Развёрнутое объяснение цитированного отрывка предложил И. Маркварт, впервые обративший внимание на параллелизм выражений soγd bärcäkär и buqaraq ulus (ulys). Каждый из этих двух этно-политических комплексов — по мнению Маркварта, Согд и Бухара — был представлен своим послом, в первом случае — Нек-сенгуном, а во втором — Огул-тарканом. Объяснив слово bärčäkär как тюркское название «согдийских зороастрийцев» (< *pārsīk är), а слово ulus — как «люди», Маркварт предложил следующий перевод: «от народа иранских мужей Согда и бухарских людей пришли Нек-сенгун и Огул-таркан». [244]
Этот перевод вызвал возражения В.В. Бартольда, П.М. Me-
лиоранского и К.Г. Залемана, отметивших филологическую и историческую слабость толкований Маркварта. [245] Мелиоранский, в частности, писал: «Выражения „от народа персидских людей Согда” и „от народа бухарских людей”, как их xoчeт понимать Маркварт, кажутся мне, как туркологу, весьма необычными, чтобы не сказать невозможными. По моему мнению, слова „Согд бäрчäкäр” и „Букарак улыс”, как бы мы их ни разделяли и ни вокализовали, должны быть собственные имена (или собственные имена с определениями) каких-нибудь стран, народов или государей, но само слово „народ” или „люди” не должно в них заключаться», [246] В.В. Бартольд, тщательно исследовавший политическую обстановку в Согде и Бухаре, сложившуюся к 731 г., пришёл к выводу о полной невозможности отправления посольства на Орхон в указанное время. [247]
С.Е. Малов условно принял перевод Томсена. [248] В последние годы приведённый отрывок вновь стал предметом дискуссии. Ф. Альтхейм, этимологизируя имя «Бухара», попытался свести его к орхонскому baqaraq, составленному, по мнению Альтхейма, из buqa «бык» и усилительной частицы -raq; buqaraq ulus Альтхейм переводит как «царство быков», a bärčäkär объясняет как barčuq är — «народ (области) Барчук», расположенной в северной части бассейна Тарима. [249] Фантастические толкования Альтхейма подвергнуты критике Р. Фраем. Фрай отмечает, что buqaraq может быть только этнонимом иранского происхождения, аналогичным этнониму soγdaq. [250] Однако сам Фрай выдвигает совершенно бездоказательную гипотезу о происхождении слова bärcäkär, предлагая читать его как [a]b[a]r čäkär «аварские воины». [251] Но этноним „авар”, содержащийся в той же надписи, пишется совершенно иначе — apar; [252] произвольно изменена вокализация термина. Само предположение о существовании в Согде в VIII в. какой-то политически самостоятельной «аварской гвардии», посылающей посольство в Монголию, ни на чём не основано.
Такова история вопроса. В ходе дискуссии непоколебленным осталось прочтение В. Томсеном цитированного отрывка и предложенное И. Марквартом его членение. Остановимся на значении отдельных компонентов фразы.
Sογd (ср. араб. ![]() ,
, ![]() ). Выше отмечено, что в качестве этнонима в надписях всюду употреблена правильная форма soγdaq, следовательно, форма soγd может означать только топоним. [253] Поскольку, однако, посольства в памятниках всегда именуются по имени государя или народа, представленных ими, а не по имени страны, слово soγd должно рассматриваться как определение к следующему за ним понятию.
). Выше отмечено, что в качестве этнонима в надписях всюду употреблена правильная форма soγdaq, следовательно, форма soγd может означать только топоним. [253] Поскольку, однако, посольства в памятниках всегда именуются по имени государя или народа, представленных ими, а не по имени страны, слово soγd должно рассматриваться как определение к следующему за ним понятию.
Bärčälär (bärčäkär?). Первый вариант чтения более предпочтителен, как это и было отмечено В.В. Радловым. Вероятной основой этого явно чуждого языку надписей слова является согдийское pr′č′k = р(а)r(а)čе = причастие, обозначающее имя деятеля, от глагола рг′č «оставлять, покидать, удаляться»; [254] в древнетюркском р(а)r(а)čе закономерно даёт форму bärče/bärčä. Значение термина несомненно — «те, кто ушёл», «те, кто покинул (родину)», «выходцы», «эмигранты». Вполне объяснима и форма множественного числа, необычная при этнониме, но употребительная в терминологических обозначениях. [255] Термин может восходить лишь к самообозначению тех согдийцев, которые, покинув родину, поселились в колониях, разбросанных в IV-X вв. на пространствах от Сыр-Дарьи до Хуанхэ.
Buqaraq. P. Фрай показал, что это слово означает только имя народа, но не название страны. [256]
Ulus. Ещё П.М. Мелиоранский отметил, что в сочетании buqaraq ulus budun слово ulus не может иметь значения «народ», «страна». Однако, если рассматривать сочетание ulus budun как парное слово, [257] такого рода семантика не исключена; по крайней мере, в древнеуйгурских манихейских и буддийских текстах VIII-X вв., где слово ulus употребляется в значении «народ, страна», встречается и парное сочетание ulus budun. [258]
Тем не менее нельзя игнорировать тот факт, что в рунических надписях слово ulus отмечено лишь в приведённом сочетании и совершенно необычно для строго фиксированной и очень единообразной системы территориальной и этнологической терми-
нологии памятников. Поэтому необходимо согласиться с мнениями И. Маркварта и В. Банга, выделивших сочетание buqaraq ulus как определительную группу, параллельную другой определительной конструкции — soγd bärčäl (k?) är, а следовательно, и принять возражения П.М. Мелиоранского против приведённых значений слова ulus.
Другое значение этого слова даёт словарь Махмуда Кашгарского: «Улуш — селение на языке чигилей, а у жителей Баласагуна и того, что около него из страны Аргу, оно означает город. И поэтому город Баласагун назван Куз-улуш». [259] Какое-либо другое значение или другой район распространения слова ulus (~uluš) автором «Диван лугат ат-турк» не зарегистрировано. Поскольку сочетание buqaraq ulus необходимо рассматривать как привнесённое в язык надписей извне, из области, где жили бухарцы, где в местном тюркском языке было распространено слово ulus и где это слово не имело значения «народ, страна», то наиболее вероятным будет видеть здесь страну Аргу.
Махмуд Кашгарский локализует страну Аргу и её города в одном случае между Баласагуном и Таразом, в другом — между Баласагуном и Исфиджабом, т.е. в западной части Семиречья. Вместе с тем Махмуд Кашгарский свидетельствует о древнем заселении этой области согдийцами, в том числе самаркандцами и бухарцами, ныне, в его время, уже тюркизованными: «Согдаки — это народ, пришедший в Баласагун и поселившийся (там). Они из Согда, что между Бухарой и Самаркандом. Они приняли тюркские нравы и обычаи». [260] По свидетельству автора XIII в. Джемаля Карши, «страна Аргу» ![]() составила главную часть улуса Чагатая, а её столицей был Алмалык (Al-balyq?), в долине р. Или. [261] В понятие «страна Аргу» здесь включено всё Семиречье. Проехавший через долину Или в 1253 г. Гильом Рубрук называет всю область «Органум»: «Земля эта прежде называлась Органум, и жители её имели собственный язык и собственные письмена. Но теперь она вся была занята туркменами. Этими письменами и на этом языке несториане из тех стран прежде даже справляли службу и писали книги». [262] По мнению Г. Юля и В.В. Бартольда, Рубрук превратил в название страны имя царицы Органы (по Рашид-ад-дину, II, 90 — Ургана-хатун), вдовы Кара-Хулагу, внука Чагатая. [263] Однако Ургана-Хатун была современницей Рубрука, в то время как путешественник рассказывает о прежнем названии и прежнем населении страны.
составила главную часть улуса Чагатая, а её столицей был Алмалык (Al-balyq?), в долине р. Или. [261] В понятие «страна Аргу» здесь включено всё Семиречье. Проехавший через долину Или в 1253 г. Гильом Рубрук называет всю область «Органум»: «Земля эта прежде называлась Органум, и жители её имели собственный язык и собственные письмена. Но теперь она вся была занята туркменами. Этими письменами и на этом языке несториане из тех стран прежде даже справляли службу и писали книги». [262] По мнению Г. Юля и В.В. Бартольда, Рубрук превратил в название страны имя царицы Органы (по Рашид-ад-дину, II, 90 — Ургана-хатун), вдовы Кара-Хулагу, внука Чагатая. [263] Однако Ургана-Хатун была современницей Рубрука, в то время как путешественник рассказывает о прежнем названии и прежнем населении страны.
По нашему мнению, предпочтительнее видеть здесь искажённое название страны Аргу, что подтверждается и сообщением Джемаля Карши.
Первые сведения о городах страны Аргу содержатся в тексте, исключительное значение которого среди других древнетюркских памятников ещё далеко не оценено. Среди вывезенных А. фон Лекоком в 1904-1907 гг. из Ходжо (Турфанский оазис) древнеуйгурских рукописей были обнаружены фрагменты манихейского сочинения Iki jyltyz nom — «Священная книга двух основ». [264] Её верхняя дата — первая половина VIII в. — определяется, в частности, и упоминанием цели написания книги — «чтобы пробудить (веру) в стране десяти стрел» (recto I, 8-10). Завершённая «в день, предвещающий удачу, в благословенном месяце, в счастливый год», книга писалась в городе «славных и благословенных тюрков-чаруков» [265] «Аргу-Таласе» (варианты: Алтун Аргу-Талас-улуш, Аргу-Талас-улуш, Талас-улуш) (recto, I, 21-28). Далее следует перечень других городов Семиречья, где были манихейские обители: Йаканкент, [266] Ордукент (Баласагун?), Чигильбалык, [267] Кашу. [268] Лишь Талас — крупнейший торгово-ремесленный центр западной части Семиречья, один из древнейших согдийских городов на этой территории, посещённый ещё Земархом Киликийцем (568 г.), [269] назван ulus. По свидетельству Нершахи, именно округа Таласа в VI в. заселялись бухарцами. [270] Не будет слишком невероятным предположение, что именно Талас-улуш назван в памятнике Кюль-тегина «городом бухарцев». [271]
Ογul tarqan. Тюркское имя и титул согдийского посла ещё не свидетельствуют о его тюркском происхождении. В Семиречье, как и в Китае и Восточном Туркестане, согдийские дихканы охотно принимали тюркские имена и титулы, стремясь определить своё социальное положение как в отношении местной
аристократии, так и в отношении беднейших слоёв местного населения. [272]
Näk säŋün. Näk < иранск. nēk/nīk «хороший, добрый» — имя обычное в иранской ономастике; [273] säŋün (< кит. сянгун) — военно-административный титул, распространённый как среди тюркской знати, так и у других народов Центральной и Средней Азии (ср., например, имя киданьского посла — Udar säŋün). [274] Один из важнейших источников для изучения тюркских племён Средней Азии, сочинение Гардизи «Зайн ал-ахбар» (окончено в 1050-1052 гг.), рассказывает о большом селении в стране тюргешей, дихкан которого носил титул ![]() бадан санку, Бадан-сенгун; [275] имя «Бадан» в VII-VIII вв. было весьма распространено в среде персидской и согдийской аристократии; ср., например, имя марзбана Мерверуда — Вāδān (ат-Табари, I, 2898). [276]
бадан санку, Бадан-сенгун; [275] имя «Бадан» в VII-VIII вв. было весьма распространено в среде персидской и согдийской аристократии; ср., например, имя марзбана Мерверуда — Вāδān (ат-Табари, I, 2898). [276]
Впрочем, возможно и чтение ![]() Нидан, ср. согд. Nīlan ~ Nīδan (ат-Табари, II, 1442, 1554; согд. документ Мугской коллекции Nov. 3). [277]
Нидан, ср. согд. Nīlan ~ Nīδan (ат-Табари, II, 1442, 1554; согд. документ Мугской коллекции Nov. 3). [277]
Об этом дихкане рассказывается, что он располагал отрядом в 7 тыс. человек, между тем как дихкан соседнего селения Биклиг, носившего также согдийское название Семакна, брат джабгуйа ![]() «выступал с тремя тысячами всадников». С текстом Гардизи корреспондирует сообщение «Худуд ал-’алам», где селение названо Биклилиг, а его дехкан — Йинал-бег-тегин. [278] Оба сообщения восходят к источникам, которые использовали информацию не позднее середины VIII в. (< ал-Джайхани < Ибн Хордадбех?). [279] Об этом, в частности, свидетельствует, с одной стороны, подробное описание государства тюргешей, уничтоженного карлуками в 766 г., с другой — упоминание карлукского титула джабгуйа. [280] Не исключено, что согдийским послом на Орхон был дихкан селения в Семиречье, один из предшественников Бадан (Надан)-сенгуна.
«выступал с тремя тысячами всадников». С текстом Гардизи корреспондирует сообщение «Худуд ал-’алам», где селение названо Биклилиг, а его дехкан — Йинал-бег-тегин. [278] Оба сообщения восходят к источникам, которые использовали информацию не позднее середины VIII в. (< ал-Джайхани < Ибн Хордадбех?). [279] Об этом, в частности, свидетельствует, с одной стороны, подробное описание государства тюргешей, уничтоженного карлуками в 766 г., с другой — упоминание карлукского титула джабгуйа. [280] Не исключено, что согдийским послом на Орхон был дихкан селения в Семиречье, один из предшественников Бадан (Надан)-сенгуна.
Все приведённые наблюдения свидетельствуют, что посольство согдийцев и бухарцев в 731 г. на похороны Кюль-тегина бы-
ло направлено в Отюкен не из Самарканда и Бухары, а из согдийских колоний в Семиречье. Возможно предложить следующий перевод цитированного места из надписи в честь Кюль-тегина: «(52)...Сзади (с запада), от народов, живущих в стране солнечного захода — от выходцев из Согда и народа города (городов?) бухарцев, — пришли (послами) Нек-сенгун и Огул-таркан».
Амфиктиония. ^
В Западном каганате второй половины VII — первой половины VIII в. власть каганов не была столь сильна, как на востоке. Ожесточённая борьба различных группировок военно-племенной знати, в чьих руках сосредоточивалась реальная военная сила, часто делала высших носителей власти подставными фигурами, цеплявшимися за каждую возможность найти политическую и экономическую опору в своей стране. В этих условиях положение больших и богатых согдийских городов-колоний, обладавших мощными укреплениями, сильными военными отрядами и огромными торгово-дипломатическими связями, было исключительно выгодным; они имели неизменную возможность выступать как «третья сила» во всяком крупном внутреннем или внешнем конфликте. Есть все основания полагать, что характер тюрко-согдийских отношений в Семиречье определялся не тюркскими каганами, а согдийскими дихканами. Под контролем согдийцев находилась вся экономическая жизнь Западного каганата, включая денежную эмиссию.
Колонии создавались в Семиречье не только Самаркандом и Бухарой, но и более мелкими городами-государствами Согдианы. Так, в 40 ли к западу от Суяба китайские источники упоминают «город государства Ми (Маймург)». [281] Как социальное, так и административное устройство колоний в главных чертах копируют метрополии. Об этом, в частности, свидетельствуют два недавно опубликованных согдийских документа, [282] где упомянут владетель одной из крупнейших семиреченских колоний, Навеката (арабск. ![]() , согд. nwykt, кит. Синьчэн, букв. «Новый город») Чер (čār «сильный, смелый, победоносный»), сын Вахзанака (w′γzn′kk «обладающий хорошим родом»). [283] Он носит тот же титул (*γwβw), что и главы согдийских княжеств, в его окружении — жрецы, светская знать, согдийская и тюркская. В обычной юридической практике Чер руководствуется теми же нормами, которые существуют и в метрополии. Нет ни разрыва связей, ни разрыва традиции.
, согд. nwykt, кит. Синьчэн, букв. «Новый город») Чер (čār «сильный, смелый, победоносный»), сын Вахзанака (w′γzn′kk «обладающий хорошим родом»). [283] Он носит тот же титул (*γwβw), что и главы согдийских княжеств, в его окружении — жрецы, светская знать, согдийская и тюркская. В обычной юридической практике Чер руководствуется теми же нормами, которые существуют и в метрополии. Нет ни разрыва связей, ни разрыва традиции.
Но согдийские колонии неизбежно унаследовали и политическую автаркию метрополий, что нашло отражение в характеристике Сюань Цзана — «владетели городов независимы друг от друга». Таково было положение в 630 г., когда Западный каганат на-
ходился на вершине могущества. Но уже скоро обстановка изменилась — десятилетие за десятилетием внутренние войны ослабляли и разоряли страну. В долине Чу «земледельцы не снимали доспехов». [284] Сохранить независимость и приобрести влияние согдийские колонии могли, лишь поддерживая друг друга. Сообщения, где нашло отражение единство действий всех или большинства согдийских городов Семиречья, начали появляться в источниках с конца VII в.
694 год. Тибетская хроника, найденная А. Стейном в Дуньхуане, отмечает: «Mgar sta gu был схвачен сог’ами». [285] Как показал Фан-гуй Ли, речь идёт о согдийцах, захвативших одного из командующих тибетской армией в Восточном Туркестане. [286] Эти события имеют почти четвертьвековую предысторию. В 670 г. тибетцы одержали наиболее блистательные победы над китайскими войсками. Их панцирная конница вторглась в пределы Западного края, и «Четыре инспекции» (Куча, Хотан, Карашар, Кашгар) оказались под контролем тибетского военачальника. Надёжными союзниками тибетцев стали западные тюрки.
В 679 г. Пэй Син-Цзянь вернул Семиречье под эгиду Танской династии. Новый протектор Западного края Ван Фан-и, сделавший своей резиденцией Суяб, обнёс город стенами и превратил его в опорную базу империи на западе. В 690 г. член каганского рода Ашина Дуйцзы, пользуясь поддержкой многих западнотюркских племён и опираясь на помощь тибетцев, попытался захватить власть в Семиречье. Однако в 692 г. тибетцы в «Четырёх инспекциях» были разгромлены армией Ван Сяо-чжи. Решающая победа одержана в 694 г., когда Ван Сяо-чжи нанёс удар тибетцам и тюркам с юга, а китайский комендант Суяба Хань Си-чжун — с севера. Союзниками китайцев были согдийцы. С большой долей вероятности можно полагать, что участвовавшие в войне согдийские отряды пришли не из Мавераннахра, а состояли из колонистов, которым события, разыгравшиеся в 690-694 гг. в Семиречье и на севере Восточного Туркестана, были далеко не безразличны.
732 год. Двое согдийских послов, независимо от послов своего сюзерена, представляют в Отюкене согдийские города Семиречья.
739 год. В Семиречье «несколько десятков тысяч выходцев из западных владений, вместе с баханьнаским (ферганским) государем и другими владетелями покорились Китаю». [287] Этой акции предшествовал разгром тюргешского войска арабами в То-
харистане и ставшая в следующем году реальностью угроза арабского вторжения в Фергану и другие области к востоку от Сыр-Дарьи. [288]
В древнетюркском памятнике и в китайской хронике согдийские города Семиречья выступают как политическое целое, проводящее самостоятельную внешнюю политику и рассматриваемое обоими источниками наравне с прочими государствами. Таким образом, есть основание сделать вывод, что в первой половине VIII в. в Семиречье существовала территориальная федерация (амфиктиония) согдийских городов, осуществлявших согласованную внешнюю политику. Номинальная зависимость федерации от западнотюркских каганов скрывала её подлинную роль в политической жизни Средней Азии.
[1] Радлов, Атлас древностей Монголии, табл. XVIII, XXIII; Мелиоранский, Памятник в честь Кюль-тегина, стр. 72; Thomsen, Alttürkische Inschriften, (78/79) S. 150, 151; Малов, Памятники, стр. 31, 40; Памятники Монголии и Киргизии, стр. 16, 20.
[2] Radloff, Denkmäler, S. 132; ср.: Радлов, Опыт словаря тюркских наречий, т. 3, стр. 2184.
[3] Thomsen, Inscription de l’Orkhon, pp. 123, 154.
[4] Gabain, Alttürkische Grammatik, S. 308.
[5] Orkun, Eski türk yazitlan, c. I, s. 44, c. IV, s. 151; Малов, Памятники, стр. 40, 376.
[6] Малов, Памятники Монголии и Киргизии, стр. 90.
[7] Reichelt, Die sogdischen Handschriftenreste, Bd II, S. 54; Bailey, Iranian studies, pp. 948-949; Климчицкий, Название Согдианы, стр. 12; ср.: Henning, Sogdica, p. 9.
[8] Marquart, Chronologie, S. 5, 56-72.
[9] Chavannes, Documents, p. 288; Gibb, Arab conquests, p. 5; Shiratory, Study on Su-t’e, pp. 100-107; Толстов, Тирания Абруя, стр. 13; Frye, Ţarxūn, р. 123; Haussig, Beschreibung, S. 114; Giraud, L’empire des Turcs, pp. 49, 188.
[10] Barthold, Quellen, S. 17; Мелиоранский, Памятник в честь Кюль-тегина, стр. 119; Бартольд, Туркестан, т. II, стр. 190.
[11] Бартольд, Новые исследования, стр. 242.
[12] Грумм-Гржимайло, Западная Монголия, т. II, стр. 298-299.
[13] Liu Mau-tsai, I, S. 160, 214-215.
[14] Ibid., S. 304-305 (биография Ce Хуай-и, Цзю Тан шу, цз. 183).
[15] Пржевальский, Монголия и страна тангутов, стр. 116.
[16] Бичурин, Собрание сведений, т. I, стр. 94.
[17] Cressey, Ordos desert, p. 201.
[18] Liu Mau-tsai, I, S. 162; Franke, Geschichte, Bd III, S. 383.
[19] Liu Mau-tsai, I, S. 160, 215, 252.
[20] Бичурин, Собрание сведений, т. I, стр. 362-364; т. III, стр. 37; Кюнер, Китайские известия, стр. 296-298. Подробнее о киданях см.: Wittfogel and Fêng Chia-shêng, History of Chinese society, pp. 85-86, 470-473.
[21] Liu Mau-tsai, I, S. 308-309; Бичурин, Собрание сведений, т. I, стр. 364.
[22] Cordier, Histoire, vol. I, p. 445.
[23] Кюнер, Китайские известия, стр. 297.
[24] Бичурин, История Тибета и Хухунора, ч. I, стр. 149-150.
[25] Бичурин, Собрание сведений, т. I, стр. 364. О последовательности событий, связанных с восстанием киданей, см. также работу Э. Пуллиблэнка (Pulleyblank, Background, pp. 157-158).
[26] Cordier,Histoire, vol. I, p. 445.
[27] Liu Mau-tsai, I, S. 160-161.
[28] Кюнер, Китайские известия, стр. 298.
[29] Бичурин, Собрание сведений, т. I, стр. 268, 365.
[30] Liu Mau-tsai, I, S. 215, 252.
[31] Китайские меры объема и веса (ху и цзинь) были не одинаковы в разные эпохи. По И.М. Ошанину, 1 ху = 52 л, 1 цзинь = 597 г (Ошанин, Китайско-русский словарь, стр. 889-890).
[32] Liu Mau-tsai, I, S. 161.
[33] Ibid., S. 216.
[34] Franke, Geschichte, Bd II, S. 413, 415.
[35] Franke, Geschichte, Bd II, S. 414-418; Cordier, Histoire, vol. I, pp. 441-413; Шан Юэ, Очерки истории Китая, стр. 200.
[36] Liu Mau-tsai, I, S. 217; Franke, Geschichte, Bd II, S. 422.
[37] Liu Mau-tsai, I, S. 162, 346-347; II, S. 602, 715.
[38] Liu Mau-tsai, I, S. 216.
[39] Это место надписи читается не вполне отчётливо. По китайским сведениям, армия Капагана насчитывала 100 тыс. человек (Liu Mau-tsai, I. S. 216), но это явное преувеличение; данные о численности войск той или иной враждующей стороны, содержащиеся в китайских источниках, в какой-то мере условны.
[40] Ср.: Малов, Памятники, стр. 57, 58, 62 (текст); ср.: стр. 66 (пер). О функциях деепричастия на -γαly см.: Щербак, Грамматический очерк, стр. 161-162; Gabain, Alttürkische Grammatik, S. 123-124.
[41] Liu Mau-tsai, I, S. 217-218, 253-254.
[42] Franke, Geschichte, Bd II, S. 422; Cordier, Histoire, vol. I, p. 447.
[43] Шан Юэ, Очерки истории Китая, стр. 201; ср.: Gordier, Histoire, vol. I, pp. 448-449.
[44] Mostaert, Ordosica, pp. 3, 18, 30; Herrmann, Atlas, p. 70. Ср.: имя ушин  у Рашид-ад-Дина (Рашид-ад-Дин, т. I, кн. 1, стр. 78); также: Pelliot et Hambis, Histoire des campagnes, vol. I, pp. 72-73. Бернштам (Бернштам, Древнейшие тюркские элементы, стр. 157) и Зуев (Зуев, К этнической истории усуней, стр. 157) пытаются связать топоним Усын (Ушын) рунического текста с этнонимом усунь.
у Рашид-ад-Дина (Рашид-ад-Дин, т. I, кн. 1, стр. 78); также: Pelliot et Hambis, Histoire des campagnes, vol. I, pp. 72-73. Бернштам (Бернштам, Древнейшие тюркские элементы, стр. 157) и Зуев (Зуев, К этнической истории усуней, стр. 157) пытаются связать топоним Усын (Ушын) рунического текста с этнонимом усунь.
[45] Бичурин, Собрание сведений, т. I, стр. 270.
[46] 46 Liu Mau-tsai, I, S. 21; Pulleyblank, Background, pp. 79-80.
[47] Liu Mau-tsai, I, S. 123, 454.
[48] Stein, Mi-ñag et Si-hia, p. 231; Грумм-Гржимайло, Западная Монголия, т. II, стр. 302; Кычанов, К вопросу о происхождении тангутов, стр. 156.
[49] Liu Mau-tsai, I, S. 446.
[50] Бичурин, История Тибета и Хухунора, ч. I, стр. 153-154; Bushell. The early history of Tibet, pp. 454-455; Hoffmann, Tibets Eintritt, S. 265-266; Богословский, Очерк истории, стр. 51-52.
[51] Бичурин, История Тибета и Хухунора, ч. I, стр. 153-154; биографию Тан Сю-цзина см.: Liu Mau-tsai, I, S. 311-312.
[52] Liu Mau-tsai, I, S. 255.
[53] Бичурин, История Тибета и Хухунора. ч. I, стр. 155
[54] Liu Mau-tsai, I, S. 218, 255.
[55] О времени рождения Бильге и Кюль-тегина см.: Мелиоранский, Памятник в честь Кюль-тегина, стр. 140.
[56] Р. Жиро и В. Эберхард видят в слове joryč (joryčyn?) искажённую передачу имени китайского полководца Вэй Юань-чжуна (Giraud, L’empire des Turcs, pp. 81-82). Однако Вэй Юань-чжун, командовавший военным округом Лин-ву, не участвовал в кампании 702 г. (Liu Mau-tsai, I, S. 218, 255).
[57] Ср.: Грумм-Гржимайло, Западная Монголия, ч. II, стр. 306, прим. 8.
[58] Ср.: Giraud, L’empire des Turcs, pp. 172-173.
[59] Попов, Мэн-гу-ю-му-цзи, стр. 316.
[60] Бичурин, История Тибета и Хухунора, ч. I, стр. 156; Bushell, The early history of Tibet, p. 455.
[61] Liu Mau-tsai, I, S. 218-219, 255.
[62] Ibid.
[63] oŋ < кит. wang «князь», tutuq < кит. tu-tu «губернатор, правитель» (Gabain, Alttürkische Grammatik, S. 321, 345). Отождествление Онг-тутука с Сян-ваном впервые обосновал И. Маркварт (Marquart, Chronologie, S. 531.
[64] Liu Mau-tsai, l, S. 219, 255.
[65] С.Е. Малов переводит фразу οŋ tutuq jorčyn jαrαqlyγ äligin tutdy (КТб, 32) «...схватил Онг-тутука с вождями вооружённой рукой» (Малов, Памятники, стр. 40). Но будущий император Жуйцзун никогда не был в плену у тюрков; поэтому предпочтительнее перевод Томсена и Мелиоранского, принятый и нами.
[66] Liu Mau-tsai, I, S. 219, 255.
[67] Грумм-Гржимайло, Западная Монголия, т. II, стр. 307.
[68] Там же, стр. 307-308.
[69] Pulleyblank, Sogdian colony, pp. 317-356.
[70] Ibid., pp. 320-323; ср.: Chavannes et Pelliot, Un traité manichéen, pp. 190, 231; Халун (apud Henning, Sogdian ancient letters, p. 603, n. 2) указывает, что в танскую эпоху такие китайские дополнения впереди имени должны были пониматься как «человек из Бухары (Ань)» или «человек из Самарканда (Кан)». Но подобные имена согдийцев, живших в Китае, настолько вошли в обиход среди самих согдийцев что в VIII в. они уже писались согдийцами в документах на согдийском языке. Так, в согдийском письме 728 г. упомянут некий «Чатфаратсаран из рода Ань», а в колофоне согдийской рукописи из собрания П. Пельо, также датируемой VIII в., назван «Чурак, сын Нафтира, из рода Хан». Оба этих родовых имени соответствуют китайским Ань и Кан (Henning, Sogdian texts, p. 736; Sogdian ancient letters, p. 603).
[71] Marquart, Chronologie, S. 56-72; Пуллиблэнк разделяет гипотезу Маркварта о походе 701 г. и локализации alty čub soγdaq (Pulleyblank, Sogdian colony, p. 321; Background, p. 112).
[72] Pulleyblank, Sogdian colony, pp. 320-322.
[73] Eberhard, The origin of the commonners, p. 154.
[74] Ср.: Boodberg, Two notes, pp. 283-291.
[75] Возможны два пути фонетического изменения этого слова по нормам древнетюркской фонетики: a) tśieu > čiu > či (Csongor, Chinese in the Uighur script, p. 116); b) tśieu > čub / čuw. Предпочтительнее чтение с конечным билабиальным -w, передающим конечный губной гласный с необычным для языка древнетюркских рунических надписей дифтонгом -әu (-оу); на закономерность передачи финального -w через руническое в указал нам и Дж. Клосон (частное письмо). Чтение čuw принято Жиро (Giraud, L’empire des Turcs, p. 188). Ср. хотано-сакское čü < кит. чжоу (Hamilton, Autour du manuscrit Stael-Holstein, pp. 124, 129). Синологической консультацией мы обязаны С.Е. Яхонтову.
[76] Pulleyblank, Sogdian colony, p. 326; Попов, Мэн-гу-ю-му-цзи, стр. 320.
[77] Schäfer and Wallacker, Local tribute products, pp. 213-248, maps I-XX.
[78] Liu Mau-tsai, II, S. 600.
[79] Pulleyblank, Sogdian colony, pp. 326-347. В статье Пуллиблэнка реферированы недоступные нам работы японских и китайских учёных — Т. Ханеда, Кувабара, Сянь Да, Чэнь Инь-ко, — посвящённые проблеме проникновения согдийцев в Центральную Азию.
[80] Liu Mua-tsai, II, S. 599-600. Ранее ту же точку зрения, что и Лю Мао-цзай, высказал японский учёный Оногава (apud Pulleyblank, Sogdian colony, pp. 354-355).
[81] Этот отрывок из Цзю Тан шу (цз. 185А. Сыбубэйяо, т. 74, Шанхай, 1946. стр. 1498) любезно перевёл по нашей просьбе Л.Н. Меньшиков. У Лю Мао-цзая это сообщение переведено, но не комментировано (Liu Mau-tsai, 1, S. 316).
[82] О местоположении Шаньюева наместничества см. работу Грумм-Гржимайло (Западная Монголия, т. II, стр. 278).
[83] Liu Mau-tsai, I, S. 329.
[84] Pulleyblank, Sogdian colony, p. 331.
[85] О шато в VIII-X вв. см. у В. Эберхарда (Eberhard, Şato, s. 15-26).
[86] Зуев, «Тамги лошадей», стр. 95. 1 цин = 6,5 га.
[87] Pulleyblank, Sogdian colony, p. 331.
[88] Liu Mau-tsai, I, S. 454.
[89] Витт, Лошади Пазырыкских курганов, стр. 191-201; Yetts, The horse, pp. 231-255.
[90] Бернштам, Араванские наскальные изображения, стр. 151-161; Waley, The heavenly horses, pp. 95-102.
[91] Зуев, «Тамги лошадей», стр. 98.
[92] Там же.
[93] Egami and Mizuno, Inner Mongolia; Maringer, Mongolia; Maringer, Grüber und Steindenkmäler, S. 303-339; Maringer, Vorposten, S. 5-20. О новейших исследования; китайских археологов см.: Васильев, Археологические исследования, стр. 163-171.
[94] Подробная история географического изучения Ордоса и критический анализ его результатов содержится в работах: Обручев, Ордос, стр. 223-310; Обручев, Центральная Азия, т. I, стр. 188-266; Carles, Ordos, pp. 668-679. Особенно интересны работы Г.Н. Потанина, локализовавшего некоторые области распространения древней земледельческой культуры и собравшего народные предания о древних памятниках (Потанин, Тангуто-Тибетская окраина, т. I, стр. 107-111; см. также: Lattimore, Inner Asian frontiers).
[95] Фань Вэнь-лань, Древняя история Китая, стр. 211.
[96] Васильев, Археологические исследования, стр. 169-170.
[97] Этноним одного из монгольских племён, давший имя значительному району Внутренней Монголии, — Чахар (ц’ахар, ч’ахар), по мнению Б.Я. Владимирцова, восходит к согдийскому слову čakir «слуга, телохранитель, воин» (араб. шакир, перс, чакар, кит. чжэ-гэ); в монгольском это слово получило значение: «слуги и простолюдины, живущие близ княжеского двора», «военный лагерь, укреплённый стеной» (Владимирцов, Mongolica, 1, стр. 326-327). О чакирах в Согде см. работу Мандельштама (Мандельштам, О значении термина «чакир», стр. 103-108).
[98] Ещё в X в. Гуачжоу был, по сведениям «Худуд ал-’алам», «местом пребывания купцов», и его население исповедовало манихейство (Minorsky, Hudüd al-’Ālam, p. 85). Таким же центром пограничной и транзитной торговли был в IX-X вв. оазис Сучжоу в рунических текстах из Восточного Туркестана —Suγču-balyq (Thomsen, Dr. М.A. Stein’s MSS., p. 186).
[99] Chavannes, Documents, pp. 5-13; Yule, Cathay; Herrmann, Die alten Seidenstrassen; Herrmann, Atlas, p. 24; Herrmann, Das Land der Seide.
[100] Henning, Sogdian ancient letters, p. 608; Mitteliranisch, S. 54-55; ср. также: Maspero, Etudes historiques, pp. 35-51; Chine antique, pp. 504-515.
[101] «Худуд ал-’алам» (Х в.) упоминает близ Турфана пять селений, «принадлежащих согдийцам. В них живут христиане, зороастрийцы и сабии (буддисты?)» (Minorsky, Hudūd al-’Ālam, p. 95).
[102] Hirth, Hunnenforschungen, S. 87-90; Maenchen-Helfen, Huns, p. 266; Enoki, Sygdiana, p. 44.
[103] Henning, Sogdian ancient letters, p. 606.
[104] Pulleyblank, Background, p. 104.
[105] Розенберг, Согдийские «старые письма», стр. 455. Не прерывалась эта связь и позднее (Бартольд, История культурной жизни Туркестана, стр. 19). В. Хеннинг отмечает одновременность распространения персидского (таджикского) языка в Согде и согдийских колониях Восточного Туркестана (Henning, Älteste persische Gedichthandschrift, S. 305-307).
[106] Pelliot, Colonie sogdienne, pp. 111-123.
[107] Giles, Chinese geographical text, p. 827.
[108] Ibid., pp. 829-830.
[109] Pulleyblank, Sogdian colony, p. 350.
[110] Певцов, Очерки путешествия по Монголии, стр. 67.
[111] Lattimore, Desert road, pp. 303-326.
[112] Andrews, The new conquest of Central Asia, p. 369.
[113] Кычанов, Китайский рукописный атлас, стр. 210 и карта.
[114] Bailey, Seven princes, p. 624.
[115] Бартольд, О языках согдийском и тохарском, стр. 35; ср.: Barthold, Historische Bedeutung, S. 4.
[116] Кусок такой ткани с согдийской надписью VII-VIII вв., хранящийся в соборе г. Юи (Бельгия), недавно определён Д. Шеперд и В. Хеннингом (Shepherd and Henning, Zandaniji identified?, pp. 15-40; см. также: Беленицкий, Бентович, Из истории среднеазиатского шелкоткачества, стр. 68-78).
[117] Laufer, Sino-Iranica, pp. 488-502; Stein, Innermost Asia, vol. I, pp. 79-80; On ancient Central-Asian tracks, p. 269; Шишкин, К вопросу о древних культурных связях, стр. 25. Ср. также термин pr’ynk (разновидность шёлковой ткани) в документах из Нии (I-III в. н.э.) (Henning, Two Central Asian words, pp. 150-157).
[118] Sarasin, Die Seidenstrassen, S. 96; Пигулевская, Города Ирана, стр. 225-228.
[119] Цит. по пер. Н.В. Пигулевской (Пигулевская, Города Ирана, стр. 227).
[120] Laufer, Sino-Iranica, p. 687.
[121] Массон, Из истории распространения шелкопряда, стр. 47-51.
[122] Пегрушевский, Земледелие в Иране, стр. 166.
[123] Laufer, Sino-Iranica, pp. 537-539.
[124] Пигулевская, Византия на путях в Индию, стр. 201.
[125] Винокурова, Ткани из замка на горе Муг, стр. 32. Весьма развиты в Согде были и другие виды текстильного производства; в изготовлении хлопчатобумажных тканей, пользовавшихся большим спросом среди ко-(102/103)чевников, Средняя Азия долгое время занимала монопольное положение, и лишь в IX-X вв. хлопок был перенесён отсюда в Китай (Бартольд, Хлопководство в Средней Азии, стр. 15).
[126] Doblhofer, Byzantinische Diplomaten, S. 132-135; Хенниг, Неведомые земли, τ. II, стр. 90-91. Об усилении торговых связей с Византией после посольства Маниаха см.: Ставиский, О международных связях Средней Азии, стр. 112.
[127] Бартольд, Очерк истории Туркестана, л. 33.
[128] Аристов, Заметки, стр. 4-6; Киселёв, Древняя история Южной Сибири, стр. 494; Кызласов, Тува в период Тюркского каганата, стр. 70.
[129] Liu Mau-tsai, I, S. 40; II, S. 488. В сравнительно позднее время (VI-VIII вв.) название Си хай — «Западное море» использовалось для обозначения Аральского и Каспийского морей (Franke, Geschichte, Bd II, (103/104) S. 235; Liu Mau-tsai, II, S. 488, 495). В первой половине I тысячелетия н.э. это же название применялось к оз. Куку-нор и области на границе Западного Цинхая (Ся Най, Сасанидские серебряные монеты, стр. 109). Однако благодаря исследованиям Р. Матера возможно сравнительно уверенно локализовать район Си хай применительно к IV-V вв. — это район в обширной дельте р. Эдзин-Гол, протоки которой впадают в озёра Гашун-нор и Согонор, окружённые множеством озёр и солончаковыми болотами; в указанное время округ Си хай был частью провинции Лян, включавшей большую часть Ганьсу, Турфанскую депрессию на северо-западе, Синян на юге (Mather, Biography of Lü Kuang, pp. 75, 88; Herrmann, Atlas, pp. 22, 30-31). О датировке описываемых событий см. выше. Описание низовий р. Эдзин-Гол см. в .работах Козлова и Обручева (Козлов, Монголия и Амдо, стр. 71-73; Обручев, Центральная Азия, стр. 398-399).
[130] Ögel, Doğu göktürk, s. 84-88, 103-104.
[131] Liu Mau-tsai, I, S. 40. (Суй шу, цз. 84); Б. Огель, рассматривая начальное а- в слове асянь как сокращение родового имени ашина, определяет сянь как китайскую кальку тюркского bilge «мудрый» (Ögel, Doğu göktürk, s. 112).
[132] Liu Mau-tsai, I, S. 5 (версия Чжоу шу, цз. 50); ср. Бичурин, Собрание сведений, т. 1, стр. 220-221 (версия Синь Тан шу, цз. 215). И. Маркварт без каких-либо аргументов относит эту легенду только к западным тюркам; по его мнению, в ней отражён процесс преобразования одного из булгарских племён в западнотюркский племенной союз, происходивший на Северном Кавказе в поздиегуннскую эпоху; сближая тюркскую и усуньскую генеалогические легенды, Маркварт относит усуней к гуннским племенам (Markwart, Analekten, S. 94-95). Подробнее об этимологии этнонима тÿрк см.: Кононов, Опыт анализа термина тÿрк, стр. 40-47.
[133] Аристов, Заметки, стр. 279; также см.: Киселёв, Древняя история Южной Сибири, стр. 494. Лю Мао-цзай и Б. Огель идентифицируют владение Со с таким же именем одного из сяньбийских племён (Liu Mau-tsai, II, S. 489; Ögel, Digu göktürk, s. 103-104).
[134] Аристов, Заметки, стр. 279-280. Население этого района ещё в XIX в. называло себя кукижи «лебединцы, люди (реки) Лебеди» (Radloff, Aus Sibirien, Bd I, S. 212).
[135] Один из вариантов этнонима кыргыз (Wittfogel and Fêng Chia-shêng, History of Chinese society, p. 105). Отождествление цигу с народом чик, упомянутым в надписи Бильге-кагана (БКб, 26), предложили Грумм-Гржимайло (Грумм-Гржимайло, Западная Монголия, т. II, стр. 311) и Кызласов (Кызласов, Тува в период тюркского каганата, стр. 70).
[136] Hirth, Nachworte, S. 42-43; Hambis, Notes sur Käm, pp. 281-300.
[137] Бичурин, Собрание сведений, т. I, стр. 222. Локализация обоих топонимов крайне затруднительна. По Аристову, это р. Чуя и прилегающий горный район (Аристов, Заметки, стр. 280). Лю Мао-цзай условно отождествляет упомянутые горы с Западным Саяном (Liu Mau-tsai, II, S. 489-490).
[138] С.В. Киселёв отмечает, что свидетельство о сохранении у тюрков счёта родства по материнской линия «особенно убеждает в том, что в основе разбираемых легенд лежат некогда бывшие реальными события и представления» (Киселёв, Древняя история Южной Сибири, стр. 494). Этнографический аспект обеих легенд подробно рассмотрен Б. Огелем (Ögel, Doğu göktürk, s. 105-109); ср. Потапов, Очерки по истории алтайцев, стр. 137-138).
[139] Liu Mau-tsai, I, S. 5-6.
[140] По Тан шу, цз. 215: «Прародителем западных тюрков был Туу, внук Нодулу. Он прозывался великий ябгу. Тумынь был старший сын Туу» (Liu Mau-tsai, II, S. 490). Следовательно, Асянь-шад, сын Нодулу, мог быть отцом или дядей Туу.
[141] Liu Mau-tsai, I, S. 6.
[142] Liu Mau-tsai, I S. 40; Цзычжи тунцзянь, цз. 159; «Предки тюркского дома Ашина произошли от смешанных ху’ских родов, прежде кочевавших в Пиньляне» (по переводу Зуева, К этнической истории усуней, стр. 14). В других династийных хрониках подчёркивается генеалогическое родство туцзюе (тюрков) с сюнну (гуннами). Словом ху в ханьскую эпоху называли прежде всего гуннов. Однако в IV-V вв. под ху понималось преимущественно местное население Восточного Туркестана и прилегающей части Ганьсу. По объяснению Лю Мао-цзая, «смешанные ху» — «варвары, смешанные в этническом отношении с другими варварами» (Liu Mau-tsai, II, S. 519). По контексту приведённого сообщения, речь идёт о гуннах, смешанных с местным населением названной части Ганьсу.
[143] Cordier, Histoire, t. I, pp. 340-384; Franke, Geschichte, Bd II, S. 117-250; McGovern, Early empires, pp. 311-355.
[144] О языке позднегуннских племён Центральной Азии см.: Ramstedt, Stellung des Tschuwassischen, S. 30-31; Bazin, Texte prototurs, pp. 208-(106/107) -219. Дискуссия: Gabain, «Der Islam», Bd 29, 1950, S. 244-246; P. Demieville ТР, vol. 39, 1950, livr. 4-5, pp. 356-357; Benzing, Das Hunnische, S. 685-687. Ср. также: Németh, Hunlarin dili, S. 106-144; Ligeti, Mots de civilisation de Haut Asie, pp. 141-188; Constantin, Were the «Hiung-nu», pp. 317-323. О происхождении этнонима см.: Pritsak, Xun, S. 27-34; Maenchen-Helfen, Ethnic name Hun, pp. 233-238; Archaistic names, pp. 249-261.
[145] Eberhard, Çin’in şimal komşulari, s. 45-46; Bazin, Appartenances linguistiques, pp. 129-138. Существуют и крайние точки зрения; так, Г. Шрейбер полагает, что сяньби были в целом тюркоязычны (Schreiber, Das Volk der Hsien-pi, S. 145-203). Напротив, по мнению Л. Лигети сяньби принадлежали к группе монголоязычных племён (рец. на кн.: Г.Д. Санжеев, Сравнительная грамматика монгольских языков, — ВЯ, 1955, №5, стр. 137-138; ср. Clauson, Turk, pp. 105-123).
[146] Morse and Yen, Ancient ethnic groups, pp. 107-130; Thomas, Nam, pp. 52, 57.
[147] Яо Вэй-юань, Исследование о фамилиях ху при Северных династиях, стр. 355-358. Это племя, часто ошибочно отождествляемое с гуннами (Грумм-Гржимайло, Западная Монголия, т. II, стр. 15; Maenchen-Helfen, Huns, pp. 222-243), было в значительной степени уничтожено в 349 г. по приказу князя династии Чжао (Северная Хэнань) Ши Миня, причём «воины цзе опознавались по высоким носам и густым бородам». Перенесение отмеченных соматических признаков на центральноазиатских гуннов послужило одним из оснований шаткой гипотезы о «европеоидности» азиатских гуннов в отличие от «монголоидных» гуннов, появившихся на Западе в IV-V вв.; антропологические исследования, осуществлённые Л. Бартучем, З. Такачем (Takacs, On the Hsiung-nu figure, pp. 274-276) и Г.Ф. Дебецом (Дебец, Палеоантропология СССР, стр. 120-123; там же — о результатах работ .Л. Бартуча), показали единство иконографического типа и палеоантропологического материала из гуннских погребений Венгрии, Забайкалья и Монголии, принадлежность которого к палеосибирскому типу азиатского расового ствола, по мнению специалистов, не вызывает сомнений.
[148] Шан Юэ, Очерки по истории Китая, стр. 134.
[149] Eberhard, Liu Yüan ve Liu Ts’ung, s. 3-72; Franke, Geschichte, Bd II, S. 40-53.
[150] Henning, Sogdian ancient letters, pp. 601-615. В этом документе племена, захватившие Лоян, названы (-xūn~hūn); поскольку тождество этих племён с сюнну (hsiung-nu) китайских источников несомненно, согдийские «старые письма» впервые воспроизвели имя центральноазиатских гуннов, записанное не иероглифическим, а алфавитным письмом. В согдийских текстах с горы Муг этноним γwn обозначает восточных тюрков (Лившиц, Согдийский посол, стр. 103). Маловероятно, что здесь имеет место сохранение «традиции китайских источников». Такая традиция действительно существовала в официальной китайской историографии, где в некоторых случаях этноним сюнну фигурировал как синоним имени туцзюе (Liu Mau-tsai, II, S. 778). Однако неясно, как эта литературная китайская традиция могла повлиять на сугубо частную переписку мелких согдийских владетелей начала VIII в. Если отождествление γwn мугского документа В-17 с восточными тюрками оправдано, не будет ли более правильным предположить существование местной согдийской традиции (литературной и изустной), основанной на давнем (IV в.)., знакомстве с одним из гуннских племён Хэси-Гаочана, впоследствии получившим известность под именем тÿрк. О термине γwn в мугских документах ср. также: Боголюбов и Смирнова, Согдийский документ, Б-1, стр. 127.
[151] Шан Юэ, Очерки по истории Китая, стр. 34.
[152] Pelliot, Nom de Chine, p. 731; Bazin, T’o-pa, pp. 228-329; Moravcsik, Byzantinoturcica. Bd II, S. 3012-303; Minorsky, Sharaf al-Zamān, pp. 18, 63, 96; Pritsak, Karachaniden, S. 20.
[153] Eberhard, Das Toba-Reich.
[154] Franke, Geschichte, Bd II, S. 180-200.
[155] Gabain, Beziehungen, S. 14-18; Ögel, Döğu gökiürk, s. 92-93. Несколько обособлена гипотеза Мустафы Кёймена, связывающего происхождение племени тÿрк с одним из наиболее известных гуннских племён — тугэ (t’uko); само название этого племени М. Кёймен рассматривает как вариант этнонима тÿрк (Köymen, T’u-ko kabilesi, s. 51-59). Это племя, переселившееся в Северный Китай в IV в., вскоре было причислено, как и некоторые табгачские племена (роды?), к числу китайских аристократических фамилий; в VII в. вожди племени находились в родственных отношениях с Танским императорским домом (618-907 гг.); отдельные роды тугэ упоминаются в источниках эпохи Сун (960-1279 гг.). По мнению Придана, этноним тугэ тождествен доуло булгарского княжества именника (Pritsak, Bulgarische Fürstenliste, S. 64).
[156] Franke, Geschichte, Bd I, S. 329-357; о первоначальных племенных территориях юечжей и усуней см.: Haloun, Zur Üe-tsï-Frage, S. 290-297. Отождествление юечжи-тохары, выдвинутое ещё Дегинем (Deguines, Histoire générale des Huns, vol. I, p. 97), в настоящее время можно считать общепринятым (Умняков, Тохарская проблема, стр. 181-193; Умняков, Тохары, стр. 15-22; Maenchen-Helten, Jüeh-chih problem, p. 77; Бернштам, Новые работы, стр. 134-138). Проблема атрибуции тохарского языка чрезвычайно сложна и не может считаться решённой (сp.: Фрейман, Тохарский вопрос, стр. 123-135; В.В. Иванов, Тохарские языки; ср. Henning, «Tocharian» language, pp. T58-162). По мнению X. Бейли, юечжи (yüe-chi) — транскрипция иранского garčik «горец» (Bailey, Ariaca, pp. 533-536).
[157] Haloun, Zur Üe-tsï-Frage, S. 280, 284-285, 293-297; Liang-chou rébellion, pp. 119-132; Chavannes, Les pays d’Occident, pp. 527-528. Бэйли отмечает участие юечжийских племён в событиях IX в., происходивших в Ганьсу (Bailey, Ariaca, pp. 535-536).
[158] Chavannes, Les pays d’Occident, d’après le Wei-lio, p. 525.
[159] Цзянь шу, цз. 97. Перевод А.Н. Бернштама (Бернштам, Очерк истории гуннов, стр. 220).
[160] Mather, Biography of Lü Kuang, pp. 1-141.
[161] Franke, Geschichte, Bd III, S. 298-299; Miller, Accounts of Western nations, pp. 5, 17-19. Наиболее детально история турфанских Цзюйцюев рассмотрена в работе В. Фухса (Fuchs, Turfangebiet, S. 138-142). Имя Цзюйцюй восходит к гуннскому титулу, наследственному в роду Мэнсюна (McGovern, Early empires, pp. 353-354). Опыт этимологии и реконструкции титула см. в работах Хирта и Миллера (Hirth, Hunnenforschungen, S. 88; Miller, Addenda, p. 281).
[162] Gabain, Beziehungen, S. 21; ср.: Bazin, T’o-pa, pp. 247, 248, 317.
[163] Bang, Über die türkischen Namen, S. 129.
[164] Korsch, Türkische Etymologien, S. 199-200; Pritsak, Bulgarische Fürstenliste, S. 93-94; Абаев, Историко-этимологический словарь, стр. 262-263; Щербак, Грамматический очерк, стр. 72.
[165] Gabain, Alttürkische Grammatik, S. 336; Bailey, Languages of the Saka, p. 136; Смирнова, Заметки, стр. 65.
[166] Boodberg, T’o-pa Wei, p. 182.
[167] Зуев, «Тамги лошадей», стр. 121-124; ср., однако, реконструкцию этнонима усунь В. Хеннингом и Г. Халуном (Haloun, Zur Üe-ts’i-Frage, S. 252, 314; Henning, Argi and the «Tokharians», p. 563).
[168] Togan, Ibn Fadlan’s Reisebericht, S. 270, 274; ср.: Minorsky, Hudūd al-’Ālam, p. 162.
[169] Ат-Табари, III, 1236; ал-Мас’уди, VII, 122, 133, 135.
[170] Синологической консультацией мы обязаны С.Е. Яхонтову.
[171] Киселёв, Древняя история Южной Сибири.
[172] Bailey, Ttaugara, p. 914; Six Indo-Iranian notes, p. 57.
[173] Schaeder, Iranica, S. 45.
[174] Schaeder, Iranien, S. 43; Henning, Sogdica, pp. 8-9. Вероятно, к V-VI вв. относится заимствование в язык племени тÿрк обыденной «тохарской» лексики, как, например, tümen «десять тысяч» < кучан. tumane (Clausen, Turkish elements, pp. 307, 310). He позднее VI в. вошли в обиход среди тюрков и титулы: a) baγatur иранская этимология предложена Кирсте и Бангом (KSz, Bd XVII, 1917, S. 119-120) и заново обоснована В. Хеннингом (apud Menges, Altaic elements, p. 94; op.: Altheim, Geschichte der Hunnen, Bd I, S. 47-48); б) yšbara, кит. шаболо (шаболио) (Pelliot, Neuf notes, p. 211), среднеперс. špārā (Mahrnāmag, 14, 39) ’ašpārā (Müller, Hofstaat, S. 210-213). В энциклопедии Тундянь (810 г.) это слово передано иероглифом со значением «геройский» (Pelliot, Neuf notes, p. 211, Gabain, Alttürkische Grammatik. Nachtrag zum Glossar). Критику взглядов Ф. Хирта и И.А. Клюкина, предложивших рассматривать yšbara как этноним, см. в работе М. Кепрелю (Köprülü, Alttürkischen Titulatur, S. 341-342). Иранская этимология, предложенная Г. Юнкером (Junker, Iranica, S. 878) получила известное признание, но предпочтительнее указание П. Аалто на происхождение древнетюрк. yšbara < санскр. usvara «князь, господин», зарегистрированное также в обоих «тохарских» диалектах Восточного Туркестана (Aalto, Zuden Pferdnamen der Orchon-Inschriften, S. 129).
[175] Liu Mau-tsai, I, S. 6; II, S. 490-491.
[176] Gabain, Alttürkische Grammatik, S. 303; Çagatay, Zur Wortgeschichte, S. 79.
[177] Pulleyblank, Sogdian colony, p. 318.
[178] Liu Mau-tsai, I, S. 102-103.
[179] Ibid., S. 85-87.
[180] Franke, Geschichte, Bd II, S. 332; Liu Mau-tsai, I, S. 85.
[181] Jäger, Leben und Werk des P’ei Kü, S. 81-415, 216-231.
[182] Liu Mau-tsai, I, S. 87-88.
[183] Franke, Geschichte, Bd II, S. 337.
[184] Ibid.
[185] Бичурин, Собрание сведений, т I, стр. 247.
[186] Liu Mau-tsai, I, S. 434-437.
[187] Fitzgerald, Son of Heaven. A biography of Li Shih-min.
[188] Liu Mau-tsai, I, S. 190-192.
[189] Грумм-Гржимайло, Западная Монголия, т. II, стр. 246.
[190] Liu Mau-tsai, I, S. 194, 188-189.
[191] Повинности, исполняемые тюрками в пользу государства, отмечены уже Чжоу шу, сведения относятся к первому тридцатилетию существования каганата (Бичурин, Собрание сведений, т. I, стр. 229; ср.: Liu Mau-tsai, I, S. 9).
[192] Liu Mau-tsai, I, S. 324-325 (биография Чжаи Гун-цзиня, Цзю Тан шу, цз. 68).
[193] Liu Mau-tsai, I, S. 142-143; ср.: Pulleyblank, Sogdian colony, p. 323.
[194] Liu Mau-tsai, I, S. 194.
[195] Ibid.
[196] Liu Mau-tsai, I, S. 285 (биография Ли Цзина, Цзю Тан шу, цз. 67). 397-398. В. Хеннинг (apud Pulleyblank, Sogdian colony, p. 324) восстанавливает имя Су-ми как *Sumit < среднеиндийск. Sumitta, санскр. Sumitra. Титул «великий вождь» (в переводе Н.Я. Бичурина — «главный старейшина», в переводе Л. Джайлса — «великий нотабль») хорошо известен по истории Самарканда; так, в конце VII в. «главный старейшина Дусоботи получил титул «владетеля» (Бичурин, Собрание сведений, т. II, стр. 311). В число функций етарейшин входилл выборы или утверждение владетеля Согда (там же); очевидно, старейшины были членами своего рода сената — высшего аристократического совета Самарканда. Титул «великий вождь» носил и выходец из Самарканда, основатель согдийских колоний Лобнора, Кан Янь-тянь.
[197] Liu Mau-tsai, I, S. 143, 196.
[198] Pulleyblank, Sogdian colony, p. 324.
[199] Liu Mau-tsai, I, S. 143-144, 195-196.
[200] Бичурин, Собрание сведений, т. I, стр. 255-256.
[201] Pulleyblank, Sogdian colony, pp. 323-324.
[202] Сведения о первом поселении согдийцев в Линчжоу, на границе с Ордосом содержатся в танской географии Юань хэ цзюнь сянь тучжи (Шанхай, 1935, цз. 4, стр. 94), составленной Ли Цзи-фу в начале IX в.: «(Уезд Лин-у) ведёт начало от территории ханьского уезда Фу ин. Когда при Хоу-Вэй разбили Хэлянь-чана (439 г.), то захватили семьи ху и поселили их здесь. Поэтому дали наименование (этому поселению) Худичэн («город земли ху»)». Указанием на это сообщение и его переводом мы обязаны Е.И. Кычанову.
[203] Pulleyblank, Sogdian colony, pp. 324-325.
[204] Ibid., p. 331.
[205] В. Хеннинг восстанавливает согдийские основы имён, транскрибированных как И-янь и Янь-янь: первое соответствует имени Йазден, второе —· Йанен (apud Pulleyblank, Sogdian colony, p. 333).
[206] Pulleyblank, Background, pp. 7, 105.
[207] Ibid., pp. 80-134.
[208] Согдийское roχšan — (rwχšn свет», «ясность», «сияние») восстановлено В. Хеннингом (apud Pulleyblank, Background, p. 15).
[209] Pulleyblank, Background, p. 19; ср. также: Levy, Biography of An Lu-shan, pp. 31-32.
[210] О титуле ältäbir (iltäbir) см.: Hamilton, Ouïghours, pp. 97-98.
[211] Pulleyblank, Sogdian colony, pp. 339-340.
[212] Васильев, Связи ханьского Китая, стр. 47.
[213] Thomsen, Turcica, pp. 103-104, Сводная работа об этом слове: Minor-sky, Tat, pp. 733-736. О социальной семантике термина см.: Бернштам, Социально-экономический строй орхоно-енисейских тюрок, стр. 125; Толстов, Древний Хорезм, стр. 265. О значении слова в позднесредневековых тюркских памятниках см.: Кононов, Родословная туркмен. Сочинение Абу-л-Гази, стр. 96-97.
[214] Махмуд Кашгарский, I, 454.
[215] Там же.
[216] Там же.
[217] Бартольд, О христианстве в Туркестане, стр. 16-18; Очерк истории Семиречья, стр. 17-25; О языках согдийском и тохарском, стр. 33-39.
[218] Бернштам, Согдийская колонизация, стр. 34-42; Памятники старины, стр. 25-42; Археологический очерк, стр. 55-86; Чуйская долина, стр. 5-83.
[219] Кызласов, Работы Чуйского отряда, стр. 88-96; Остатки замка, стр. 152-181; Кожемяко, Раннесредневековые города; Зяблин, Второй буддийский храм.
[220] Распопова, Гончарные изделия согдийцев, стр. 138-163. В этой статье дана полная библиография по истории изучения согдийских поселений Семиречья.
[221] Якубовский, Развитие городов Средней Азии, стр. 3-16; Воронина, Раннесредневековый город, стр. 84-104.
[222] Кожемяко, Раннесредневековые города, стр. 65-130. Об аграрном характере раннесредневекового города в Средней Азии и Иране см.: Заходер, Хорасан, стр. 124; Пигулевская, О городах Ирана, стр. 72; Сухарева, К истории городов, стр. 28-29.
[223] Кожемяко, Раннесредневековые города, стр. 65.
[224] Бернштам, Археологический очерк, стр. 56. Первая публикация надписи была сделана Фрейманом (Фрейман, Древнейшая согдийская надпись, стр. 135-136). Новое чтение и датировка дана Хеннингом (Henning, Mitteliranisch, S. 54).
[225] Кызласов, Работы Чуйского отряда, стр. 95-96.
[226] Clauson, Akbeshim-Suyab, pp. 1-13.
[227] Кызласов, Работы Чуйского отряда, стр. 95.
[228] Первые публикации тюргешских монет сделаны Бернштамом (Бернштам, Тюргешские монеты, стр. 105-112; Новый тип, стр. 68-72). Новая публикация и чтение даны Кызласовым, Смирновой, Щербаком (Кызласов, Смирнова, Щербак, Монеты из раскопок городища Ак-Бешим, стр. 514-563).
[229] Зуев, Китайские известия о Суябе, стр. 91.
[230] Борисов, Сирийская надпись, стр. 105-108.
[231] Ал-Мукаддаси, стр. 275.
[232] Julien, Mémoires, p. 12; Si-yu-ki, p. 27; Зуев, Китайские известия о Суябе, стр. 90-91.
[233] Julien, Mémoires, p. 12.
[234] Тюрк. bölön < тиб. blon «вельможа, высшее должностное лицо» (Lalou, Grand Tibet au VIIIе siècle, p. 5), ср. хотано-сакск. buluna (Bailey, Staël-Holstein miscellany, p. 8).
[235] Обоснование чтения näk (nik) см. в работе Маркварта (Marquart, Chronologie, S. 32).
[236] По переводу С.Е. Малова (Малов, Памятники, стр. 43): «от народа десяти стрел и от сына моего, кагана тюргешского». Однако текст не даёт оснований для разделения композита on oq oγlym; ср. выражение on oq ογlyŋa (КТм, 12), переводимое С.Е. Маловым «до сыновей десяти стрел». Слово oγul в обоих случаях употреблено как политический термин, указывающий на вассальную зависимость, реальную или номинальную, западнотюркских владетелей от орхонских каганов.
[237] Тюрк. maqarač < др.-инд. māhāraja (Stael-Holstein, Brahmiglossen, S. 128).
[238] Тюрк. čyqan < кит. či(k)-kuan, титул должностного лица (Thomsen, Alttürkische Inschriften, S. 173).
[239] Об обстоятельствах и дате описываемых событий см. гл. II данной работы.
[240] W. Radloff, Denkmäler, S. 28-29, 133, 139; Inschriften von Koscho-Zaidam, S. 149, 179; Радлов и Мелиоранский, Древнетюркские памятники, стр. 36.
[241] Thomsen, Inscription de l’Orkhon, pp. 114, 165.
[242] [Heikel], Inscriptions de l’Orkhon, tabl. 12; в «Атласе» Радлова (табл. XIX) эта часть строки не сохранилась.
[243] Thomsen, Inscription de l’Orkhon; Alttürkische Inschriften, S. 156.
[244] Marquart, Chronologie, S. 32-33.
[245] Barthold, Quellen, S. 26 (там же — мнение К.Г. Залемана); Мелиоранский, Памятник в честь Кюль-тегина, стр. 134-135.
[246] Мелиоранский, Памятник в честь Кюль-тегина, стр. 135.
[247] Barthold, Quellen, S. 26; 12 Vorlesungen, S. 39.
[248] Малов, Памятники, стр. 43.
[249] Altheim, Aus Spätantike, S. 111-112; Ein asiatischer Staat, S. 277.
[250] Frye, Notes, pp. 110-111. Ср. ответ Альтхейма: Altheim, Stihl, Finanzgeschichte, S. 366-372.
[251] Frye, Notes, pp. 110-111. Неудачную корреляцию упомянутого термина с аварами см. также у Хауссига: Haussig, Quelle, p.p. 24-25.
[252] Малов. Памятники, стр. 29.
[253] Ср.: Мелиоранский, Памятник в честь Кюль-тегина, стр. 135.
[254] Benveniste, Vessantara Jātaka, p. 18, 1. 252. О переходе конечного -к > -е см.: Henning, Sogdian loan-words, p, 98; Gershevitch, Grammar, p. 144. Пользуюсь случаем выразить признательность за консультацию В.А. Лившицу.
[255] Об употреблении формы множественного числа в памятнике Кюль-тегину см.: Малов, Памятники, стр. 50.
[256] Frye, Notes, p. 119; ср.: Владимирцов, Географические имена орхонских надписей, стр. 169-174; об имени «Бухара» см.: Лившиц, Кауфман, Дьяконов, О древней согдийской письменности, стр. 150-163; Henning, Mitteliranisch, S. 53.
[257] О парных словах в памятниках см.: Малов, Памятники, стр. 49; более широко вопрос о семантике парных слов рассмотрен в работе Муратова (Муратов, Устойчивые словосочетания в тюркских языках).
[258] KP, XXX, 8; Bang, Gabain, Atlantischer Index, S. 51.
[259] Махмуд Кашгарский, I, 62.
[260] Там же, I, 471.
[261] Бартольд, Туркестан, т. I, тексты, стр. 138; о значении слова argu см.: Gabain und Winter, Türkische Turfantexte IX, S. 22.
[262] Рубрук, Путешествие, стр. 126.
[263] Там же, стр. 232.
[264] Le Coq, Türkische Manichalca, I, S. 26-27; Radloff, Alttürkische Studien, стр. 744-745; Le Coq, Manichäisrhe Buchfragment, S. 150; Chavannes et Pelliot, Un traité manichéen, pp. 140-142; Bang. Manichäische Hymnen, S. 24-26; Henning, Argi and the «Tokharians», pp. 551-552; Gabain, Steppe und Stadt, S. 50-51.
[265] Махмуд Кашгарский (1, 381) пишет о чаруках как о населении г. Барчука (Восточный Туркестан). Ср. также название одного из огузских племён — джаруклуг (Махмуд Кашгарский, I, 58, 497; Карпов, Туркмены-огузы, стр. 7).
[266] Ср. ал-Мукаддаси, III, 274.
[267] Махмуд Кашгарский, I, 87, 124.
[268] Согласно «Абдулла-иаме» (рукопись ЛО ИНА, Д. 88, л. 328б), город Кушу-улуш, расположенный близ Йаканкента, существовал ещё в XVI в.
[269] Менандр Протектор, История, стр. 380.
[270] Толстов, Древний Хорезм, стр. 248-250.
[271] Перевод ulus как «город» в данном контексте был предложен одновременно А. Элёве (Elöve, Btr yazı ineselesi, s. 75) и мной (Klyachtornïj, A propos des mots, pp. 247-248).
[272] Benveniste, Nom sogdiens, p. 291; Лившиц, Согдийский брачный контракт, стр. 83-85.
[273] Justi, Iranisches Namensbuch, S. 228.
[274] Wittfogel and Fêng Chia-shêng, History of Chinese society, p. 454.
[275] Первое издание и русский перевод главы о тюрках из сочинения Гардизи осуществлены Бартольдом (Бартольд, Отчёт о поездке в Среднюю Азию, стр. 103, 126).
[276] Justi, Iranisches Namensbuch, S. 56.
[277] Лившиц, Согдийский брачный контракт, стр. 84.
[278] Minorsky, Hudūd al-’Ālam, pp. 99, 303-304.
[279] О ранних источниках Гардизи см.: Minorsky, Gardizi on India pp. 625-626; Крачковский, Арабская географическая литература, стр. 219-224.
[280] Сp.: Щербак, О чтении легенд, стр. 559-561.
[281] Chavannes, Documents, р. 10.
[282] Nov. 3, Nov. 4.
[283] Лившиц, Согдийский брачный контракт, стр. 80-84.
[284] Chavannes, Documents, p. 144.
[285] Bacot, Thomas, Toussaint, Documents de Touen-Houang, p. 38.
[286] Fang-kuei Li, Notes on Tibetan sog, pp. 139-142.
[287] Бичурин, Собрание сведений, т. I, стр. 299; Chavannes, Documents, p. 84.
[288] Ат-Табари, II, 1689-1691.
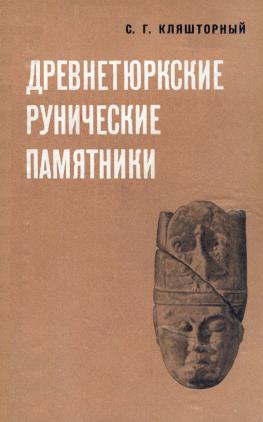 С.Г. Кляшторный
С.Г. Кляшторный