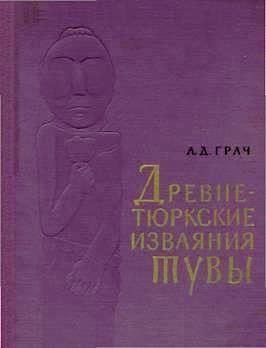 А.Д. Грач
А.Д. Грач
Древнетюркские изваяния Тувы.
По материалам исследований 1953-1960 гг.
// М.: Изд-во восточной литературы. 1961. 96 с., 95 рис., вклейки.
Глава третья.
Реалии, изображённые на каменных изваяниях,
и вопросы датировки фигур.
Изучение «инвентаря», изображённого на изваяниях, имеет первостепенное значение потому, что даёт возможность точно установить датировку фигур, а также реконструировать некоторые детали одежды, причёски, манеру ношения тех или иных предметов, имевших хождение в древнетюркское время.
Впервые изучение «инвентаря» древнетюркских каменных фигур было начато Л.А. Евтюховой. [1]
Одежда. [2] ^
Детали одежды изображаются на каменных изваяниях довольно часто, но весьма скупыми чертами. Несмотря на это, изучая детали одежды, можно сделать интересные наблюдения историко-этнографического характера.
В публикуемой нами серии изваяний детали одежды изображены на статуях №1, 2, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 22, 24, 42, 44, 52, 53, 55 56, 57.
Обычно показан нагрудный вырез, по которому можно судить, что изображена верхняя одежда. Кроме того, на изваяниях бывают подчеркнуты края рукавов с узкими рельефными отворотами.
Особый интерес представляют контуры одежды, высеченные на трёх изваяниях в Монгун-Тайге (№6, 22, 24). Во всех трёх случаях изображены широкие лацканы. На изваянии №22 лацканы имеют фигурные вырезы. Важно, что отчётливо показана манера запахивания
(59/60)
одежды — справа налево (правая пола наверху). Это тем более интересно, так как мы знаем из Тан-шу, что тюрки-тугю запахивали одежду на левую сторону («...левую полу наверху носят»). [3] На этом мы ещё остановимся ниже.
Головные уборы. ^
Преобладающим типом головных уборов, изображённых на изваяниях публикуемой серии, являются маленькие шапочки, усечённо-конусообразной формы (изваяния №5, 37, 39, 44, 52). Этот тип головных уборов представлен не только на изваяниях нашей серии; они обнаружены и в Туве (изваяния №33, 39, 53, серия Л.А. Евтюховой), [4] и в Монголии (№74, 80, серия Л.А. Евтюховой, а также, изваяние возле гробницы принца Кюль-Тегина), [5] и на Алтае, где их было найдено больше всего (серия Л.А. Евтюховой, изваяния №4, 6-9, 11, 14, 16). [6] Этот головной убор дожил до современности и имеет много общего с шапками казахов. [7]
В двух экземплярах представлен ещё один тип головных уборов, распространённых в древности. На изваяниях №22, 24 (Моген-Бурен) изображена «папахообразная» высокая шапка, подвергшаяся сильным повреждениям. По-видимому, то изображение высокой меховой шапки, подобное меховой шапке, найденной С.И. Руденко при раскопках второго Пазырыкского кургана (1947 г.), что даёт основание говорить о распространении этого вида головных уборов ещё в дотюркское время. Сходного типа головные уборы были зафиксированы Л.А. Евтюховой на изваяниях Тувы (№29, серия Л.А. Евтюховой), [8] Монголии (№70) [9] и Хакассии (№67). [10]
Остаётся упомянуть ещё об одном виде головных уборов, отмеченном на изваянии №28 (Бай-Тал), где изображён сравнительно невысокий убор с острым верхом, загнутым вперёд. [11] Изображения аналогичных головных уборов были обнаружены в Асхете экспедицией В.В. Радлова (на каменной плите высечены три фигуры в остроко-
(60/61)
нечных головных уборах). [12] Этот тип головного убора довольно редок на изваяниях и, помимо фигуры в Бай-Тале, был отмечен всего в двух случаях — изваяния №78 (Монголия) и №35 (Тува) из числа фигур, опубликованных Л.А. Евтюховой. [13] Головные уборы подобного типа имели хождение и в гуннское время — обычно их сопоставляют с шапкой из Ноин-Улы. [14]
Причёска, усы, борода. ^
Наиболее интересной деталью причёски, изображённой в ряде случаев на каменных изваяниях, является коса. Косы имеются на изваяниях №43 и 55 (Тува), а также на каменных фигурах, обнаруженных в Барлыкской степи (район Бижиктиг-Хая), [15] в степи Манайлыг-Хову (Дзун-Хемчикский район), [16] в районе Булуна. [17]
Любопытно, что в трёх случаях на изваяниях, найденных в совершенно разных районах (Овюр, Барун-Хемчик, Дзун-Хемчик), косы сочетались с причёской на прямой пробор. Крайне существенно и то, что косы были отмечены на изваяниях, у поясов которых находились лировидные подвесные бляхи, датируемые VIII-IX вв. В то же время бросается в глаза архаичность манеры, в которой показана причёска изваяния №55, хотя и принадлежащего к поздней группе, но отражающего некоторые стилистические особенности, встреченные на изваяниях ещё андроновского времени. [18]
Поскольку все фигуры публикуемой серии изображают мужчин, на изваяниях часто встречаются усы и борода. Усы, как правило, с загнутыми вверх концами и гораздо реже с концами, опущенными вниз.
(61/62)
Отмечены два вида изображения бороды — либо маленький клинышек, более или менее рельефно показанный на подбородке в виде своеобразного останца, либо клинообразная бородка в виде небольшого свисающего выступа под подбородком. Исключения составляют окладистые бороды, изображённые на изваяниях №34 (Кара-Холь), 49, 51, (Овюр), а также борода, заплетённая в косички (№38, Овюр).
Серьги. ^
На изваяниях публикуемой серии нами были отмечены три типа серёг. Первый — овальной формы кольцо, к которому прикреплён спускающийся вниз стерженёк с маленькой подвеской. Изображения таких серёг зафиксированы на изваяниях №1, 19, [19] 44. Этот тип серёг твердо датируется VII-VIII веками — они были найдены при раскопках древнетюркских памятников в Курайской степи, на Алтае (Курай II, курган 3, и Курай VI, курган 1). [20] Подобного рода серьги были широко распространены в кочевом мире и обнаружены не только в Центральной Азии и Южной Сибири, но и в Европе — на Кавказе (Комунта, Дергавс, Кобань) [21] и при раскопках Салтовского могильника. [22]
Второй тип серёг встречен на изваяниях №6, 22 и 43. Это прообразы серёг, найденных на Алтае при раскопках Сросткинского могильника. Они представляют кольцо с прикреплённой к нижнему краю шаровидной напайкой. По совокупности инвентаря, найденного в погребениях, и, в частности, по нумизматическому материалу (монеты Ву-Цзуна), эти серьги датируются IX веком, [23] позднейшим этапом древнетюркского периода. Изображения серёг этого типа были ранее зафиксированы на двух изваяниях в Монголии (урочище Орта-Булак и Олоту). Однако если серьги, показанные на этих древнетюркских фигурах, могли быть сопоставлены с серьгами из Сросткинского могильника лишь приблизительно, то серьги, изображённые на изваяниях №6, 43 из публикуемой серии, представляют собой копии сросткинских серёг, хотя и относятся к более раннему времени.
(62/63)
Оружие. ^
Оружие на многих каменных изваяниях придает им особый колорит, так как подчёркивает, что фигуры изображают воинов. На каменных фигурах показаны два вида лёгкого оружия, бытовавшего в древнетюркское время, — сабли и кинжалы.
Изображения сабель обнаружены на семи изваяниях. В четырёх случаях — это прямые сабли с перекрестьями (изваяния №1, 12, 13, 22). Ближайшей аналогией этим саблям служит сабля, обнаруженная при раскопках М.П. Грязновым одного из погребений сросткинской культуры на Верхней Оби (район села Большая речка, пункт БЕ-VIII, курган 1, погребение 5). [24] Во времена, синхронные сооружению древнетюркских каменных изваяний, сабли, подобные тем, которые показаны на изваяниях, имели самое широкое хождение на весьма отдалённых друг от друга территориях «великого пояса степей» — они встречаются среди древностей Кавказа [25] и Венгрии [26] и твердо датируются VII-VIII веками.
В одном случае (изваяние №5) изображена сабля без перекрестья, близко напоминающая сабли, зафиксированные Л.А. Евтюховой на каменных изваяниях в Туве (котловина Деспен) [27] и Монголии. [28]
Кинжалы были изображены на шести изваяниях из публикуемой серии (№1, 5, 6, 13, 19, [29] 37). Пять из этих кинжалов относятся к так называемому «уйбатскому» типу. Когда-то находка такого кинжала (одно из каменных изваяний, опубликованных Л.А. Евтюховой) справедливо привлекла к себе внимание как весьма примечательный факт. [30] Теперь, в свете новых материалов, оказалось, что изображение кинжалов этого типа, как будет показано ниже, не случайно и имеет особое значение. Вещественные аналогии этих кинжалов представляли специфическую форму лёгкого оружия в древнетюркское время. Железный кинжал такого рода был найден во время раскопок С.В. Киселёвым и Л.А. Евтюховой могилы №1 кургана 7 Уйбатского чаатаса в Хакассии. [31] Аналогичные кинжалы имели распространение и далеко на западе — они найдены при раскопках одного из курганов Архиерей-
(63/64)
ской заимки близ Томска, [32] при исследовании Борисовского могильника на Северном Кавказе [33] и близ Купянска в Харьковской области. [34] Основная черта, характерная для кинжалов этого типа, — черенок отогнут под углом к лезвию.
Пояса, поясные наборы, каптаргаки. ^
На изваяниях публикуемой нами серии зафиксировано большое число поясов. Часто они изображены с наборными бляхами и всевозможными предметами, которые обычно носили у пояса.
Основной тип наборных блях, встреченных на изваяниях, — это подчетырёхугольные по форме бляхи (№1, 2, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 24), на которых в некоторых случаях можно проследить имитацию узких фигурных вырезов. Вещественные прототипы таких блях были найдены при раскопках древнетюркских памятников, проведенных нами в Монгун-Тайге (например, пояс из детского погребения на могильнике Узук-Усту). [35] Подобного рода бляхи были зафиксированы на поясе из древнетюркского погребения VIII-IX вв., раскопанного в Улуг-Хемском районе Тувы экспедицией Тувинского научно-исследовательского института языка, литературы и истории. [36] Такие же бляхи были найдены при раскопках древнетюркских погребений Алтая (Туяхта, Курай) [37] и Минусинской котловины (Капчалы, [38] Тюхтятский клад). [39] Эти бляхи, как и ряд других групп предметов из Центральной Азии, имеют аналогии среди кочевнических памятников VII-VIII вв. на территории Венгрии. [40] На поясах древнетюркского времени бляхи указанного типа часто комбинируются с лунницеобразными
(64/65)
бляхами. [41] Пример такой комбинации наглядно виден и на изваянии №43.
Чётко датируются и своеобразные подвесные бляхи лировидной формы — на изваяниях нашей серии они были обнаружены на двух фигурах (№43 и 55). Эти бляхи датируются поздним этапом древнетюркского времени (VIII-IX вв.) и были найдены в центральной [42] и южной [43] Туве, Минусинской котловине, [44] Забайкалье [45] и Семиречье. [46] Обнаружены они и на двух известных крупномасштабных каменных изваяниях из центральной Тувы (Барун-Хемчик и Дзун-Хемчик). [47]
Завершая сводную характеристику поясов, изображенных на каменных фигурах, нам остаётся коснуться ещё каптаргаков — мешочков для ношения мелких вещей — кресала, огнива, трута, амулетов. Эти изображения довольно многочисленны — они были встречены на 13 изваяниях публикуемой группы (№I, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 19, 24, 29, 52, 55). Во всех случаях каптаргаки подвешены у пояса с правой стороны. Большинство из них имеет округлую форму. На двух фигурах (№6 и 55) обнаружены парные каптаргаки, укреплённые на одном ремне и изображённые весьма детально (они напоминают полуовальные кожаные кошельки). Археологические параллели этой группе предметов были найдены при раскопках на Алтае (Курайская степь) [48] и в Монгун-Тайге. [49] Изображения мешочков фигурируют и на изваяниях, опубликованных Л.А. Евтюховой. [50] Данные раскопок дают возможность судить о материале, из которого шились эти мешочки (китайский шёлк, войлок, кожа и меха).
Традиция изготовления мешочков оказалась весьма живучей. Л.П. Потапов наблюдал у алтайцев-охотников такие сумки, сделанные из кожи и имевшие, подобно древним прототипам, полукруглую
(65/66)
форму. [51] Алтайское название этих сумочек — _каптарга_. [52] Более древний термин зафиксирован Вильгельмом Рубруком у кыпчаков в XIII в., которые именовали мешки — каптаргак. [53]
На одном из изваяний (№44) на месте каптаргака к поясу подвешен предмет, форма которого не оставляет сомнения в том, что перед нами изображение кожаного сосуда. Такого рода сосуды сохранились до последнего времени в быту тувинцев и монголов. Автор много раз наблюдал эти сосуды во время поездок в Туву (1953-1960 гг.) и по территории Монголии (1957-1958 гг.). Это дорожные сосуды, которые обычно покрыты тисненым орнаментом и предназначены для воды и араки (молочная водка). Тувинский термин, обозначающий такого рода сосуды, — _кугээржик_ (уменьшительное от _кугээр_ — кожаный сосуд большой вместимости). Современные кугээржики делятся на две группы, отличающиеся размерами. В быту распространены и малые сосуды, по масштабам подобные сосуду, изображённому на древнем изваянии.
Сосуды. ^
Мотивы изображения сосудов на каменных изваяниях остаются пока загадочными. В то же время очевидно, что высекание их играло существенную роль в ритуале каменных фигур. Однако из 58 фигур публикуемой серии сосуды изображены только на 23 [54] (учтены только те случаи, где сосуд чётко различим; имеются ещё и поврежденные изваяния, где сосуды несомненно были изображены, но не сохранились).
Сосуды, изображённые на изваяниях нашей серии, подразделяются на несколько основных групп.
К первой относятся сосуды с шаровидным туловом, высоким (часто отогнутым) горлом и вертикально профилированным поддоном. Подобные сосуды были распространены среди тюркских памятников VII-IX вв. и являлись наиболее широко представленным в быту видом металлической посуды. Находки таких сосудов сделаны на Алтае (Катанда, [55] Курай, [56] Туяхта, [57] Гурьевский завод [58]), в Мину-
(66/67)
синской котловине (Биджа, [59] Копёны [60] и др. [61]), в Туве (Монгун-Тайга [62]).
Вторая группа — кувшинчики с бомбовидным туловом, без поддона, с вертикально профилированным или отогнутым венчиком. Эти сосуды имеют аналогии среди сосудов кыргызских погребений в Минусинской котловине, [63] а также среди сасанидского золота. [64]
Третья группа — флаконовидные маленькие сосудики с узким удлинённым туловом, с поддоном и высоким горлышком, имеют широкий круг аналогий среди китайских изделий.
Четвёртая группа — сосуды в виде чаши полусферической формы с вертикально профилированным поддоном.
Пятая группа — крупные сосуды с бомбовидным туловом, с резко отграниченным и отогнутым поддоном и туловом.
Шестой тип, представленный всего одним сосудом в виде полусферической чаши без поддона, аналогичен золотым и серебряным сосудам, имевшим хождение не только в древнетюркский период, но и до монгольского времени включительно. [65]
* * *
[ Заключение. ] ^
Исследование «инвентаря», изображенного на каменных изваяниях, позволяет твёрдо установить датировку фигур. Сопоставление «инвентаря» каменных фигур с предметными древнетюркскими сериями даёт возможность отнести основное число фигур к VII-VIII вв. — это изваяния при оградках с рядами камней-балбалов.
Наиболее поздними фигурами являются изваяния, на которых изображены лировидные подвесные бляхи, серьги с шаровидной напайкой, косы и которые не сопровождаются какими-либо признаками оградок. Эти памятники относятся к VIII-IX вв. Л.Р. Кызласов
(67/68)
также придерживается точки зрения, что изваяния поздней, «уйгурской» группы — это фигуры без оградок. [66] При этом Л.Р. Кызласов правильно отмечает, что один из датировочных признаков — изображение на изваяниях фигурных блях с сердцевидным вырезом. В то же время известно, что такие лировидные бляхи, найденные при раскопках в Забайкалье, Минусинской котловине и Семиречье, датируются VIII-X веками. Они были обнаружены и при раскопках древнетюркских курганов Тувы (например, в Улуг-Хемском и Овюрском районах), причём находки были сделаны именно в курганах с северной ориентировкой погребенных. Эти курганы мы относим к поздней группе древнетюркских памятников Тувы, а Л.Р. Кызласов датирует их VII-VIII веками. Необходимо отметить, что Л.Р. Кызласов в этом случае по меньшей мере непоследователен. Так, если свести воедино его мнение о датировке поздних изваяний Тувы и ту общую схему датировки древнетюркских памятников Тувы, которой он придерживается, возникает естественный вопрос: каким образом эти действительно поздние изделия, изображённые на изваяниях второй (поздней) группы, попали в погребения раннего (по Л.Р. Кызласову) периода?
В действительности, если обратиться к реальным фактам, никакого противоречия здесь нет: изваяния второй группы одновременны поздней группе тюркских погребений Тувы (погребения по оси север — юг).
Вывод же Л.Р. Кызласова о том, что зона распространения фигур уйгурского периода охватывала только бассейн Улуг-Хема и Хемчика, оказался преждевременным — изваяние (№43) поздней группы было найдено и далеко за пределами указанной им зоны — в Овюрском районе (южнее Танну-Ола, долина Боора-Шая).
Изучение признаков, датирующих изваяния, — изображённый на них «инвентарь» и сообщения письменных источников позволяют говорить, что обряд, связанный с установкой изваяний, существовал до IX в. включительно, охватывая, таким образом, периоды владычества в Центральной Азии каганата тугю и уйгурского ханства (что касается древнетюркских оградок, то верхний хронологический рубеж их существования — VIII в.).
Итак, обряд, столь характерный для времени владычества тугю, сохранился и в уйгурское время, это связано с тем, что смена государственных объединений, очевидно, не привела к значительному смещению этнической карты. В частности, в некоторых районах Тувы, во время уйгурского владычества, обитали те же основные этнические группы, что и во времена каганата тугю. Именно этим и можно
(68/69)
объяснить, что данный обряд продолжал существовать некоторое время после падения каганата тугю на тех же территориях.
Таким образом, после IX в. конкретные памятники, связанные с балбалами, уже не сооружались. Почему именно столь устойчивый обряд перестал существовать — сказать трудно. Можно, однако, предполагать, что отказ от обряда установки балбалов связан с временным проникновением в Центральную Азию кыргызов в результате сокрушительного разгрома ими уйгурского ханства в 840 г.
Что касается западных групп тюркских кочевников, то в первой половине X в. у них ещё можно было наблюдать обряды, имевшие много общего с погребальным ритуалом тюрок Центральной Азии.
Арабский путешественник Ибн-Фадлан, посетивший в 921-922 гг. Среднюю Азию и Поволжье, говоря об обычаях тюрок-огузов, сообщал, что при похоронах тюрка, «если же он когда-либо убил человека и был храбр, то (они) вырубят изображения из дерева по числу тех, кого он убил, поместят их на его могиле и скажут: „Вот его отроки, которые будут служить ему в раю”». [67]
Итак, у огузов в первой трети X в. ещё существовал обычай изображать врагов покойного воителя. Вряд ли можно усомниться в том, что деревянные изображения, которые упоминает Ибн-Фадлан, — это синонимы несколько более древних балбалов у центральноазиатских тюрок. Разумеется, имея в виду смысловое сходство важных деталей погребального ритуала у западных тюрок X в. и центральноазиатских тюрок VII-IX вв. нельзя не отметить и существенные различия, главные из которых сводятся к тому, что у нас нет решительно никаких оснований считать, что крайнезападными тюркскими группами сооружались поминальные оградки. Более того, в книге Ибн-Фадлана прямо говорится о том, что изображения убитых врагов ставятся на могиле, а не возле поминального памятника. [68]
Как долго существовал обряд изображения врагов у огузов — установить трудно. Однако весьма примечательно, что термин «балбал»
(69/70)
уже отсутствует в словаре половецкого языка, который был составлен венецианцем, жившим в Солхате (Крым), и содержал более 1500 слов, а также перевод этих слов на латынь и персидский. [69] Хотя составление этого памятника и датируется началом XIV в., в основу его лёг лексический материал XIII в. [70] Куманские же статуи, весьма достоверно описанные Вильгельмом (Гильомом) Рубруком, упоминаются им только при рассказе о территориях Европы. Судя по характеристике Рубрука и по археологическим данным, более поздние половецкие каменные статуи, [71] в таком обилии найденные на территориях юга Европейской части России, имели иной смысл, чем древнетюркские фигуры Центральной и Средней Азии и деревянные изображения врагов у тюрок-огузов X в. Интересно, однако, что специальные исследования, проведенные в своё время В.А. Городцовым, позволяют сделать вывод, что фигуры юга России, как и изваяния Центральной Азии, оказались не связаны с погребениями — курганы, на которых они установлены, не содержали кочевнических погребений. [72]
Общий же комплекс представлений, связанных со «служением покойному победителю в загробном мире», оказался тем не менее весьма стойким и в прямых проявлениях дожил до XIII в., т.е. до времени империи Чингисхана и Чингисидов включительно. В этой связи в первую очередь следует сослаться на описание обряда похорон монгольских каганов, приводимое в труде Марко Поло: «Всех великих государей, потомков Чингисхана, знайте, хоронят в большой горе Алтай; и где бы ни умер великий государь татар, хотя бы за сто дней пути от той горы, его привозят туда хоронить. И вот ещё какая диковина: когда тела великих ханов несут к той горе, всякого, кого повстречают, дней за сорок, побольше или поменьше, убивают мечом провожатые при теле да приговаривают: „Иди на тот свет служить нашему государю”. Они воистину верят, что убитый пойдёт на тот свет служить их государю». [73] Далее Марко Поло сообщает,
(70/71)
что при перевозе к месту похорон тела хана Мöнкэ было убито двадцать тысяч человек. [74]
Из сведений, приводимых Марко Поло, становится ясным, что в сообщениях Рашид-ад-дина, где говорится о событиях, имевших место после кончины Чингисхана, случившейся во время похода против тангутов, наблюдается противоречие. Приводя хронику событий, Рашид-ад-дин в «Летописи Чингизхана» указывал: «... забрав его (Чингисхана. — А.Г.) гроб (монголы. — А.Г.) пустились в обратный путь. По дороге они убивали всё живое, что им попадалось, пока не доставили [гроб] в орды». Незадолго до смерти, предчувствуя свою кончину, Чингисхан, приказал своим военачальникам сохранить его смерть в тайне, «...чтобы враг не проведал о ней». [75] Это предсмертное повеление Чингисхана было исполнено.
В другой летописи — «О качествах и обычаях Чингизхана», где опять-таки повествуется о кончине великого кагана, Рашид-ад-дин даёт неожиданный комментарий, говоря, что массовые убийства, совершавшиеся при перевозке тела, производились во имя того, «...чтобы весть о его смерти не разнеслась по окрестным местам». [76] Это объяснение не может быть принято, так как, во-первых, в завещании речь идёт о сохранении тайны смерти до успешного завершения штурма столицы тангутов, во-вторых, сам же Рашид-ад-дин указывал, что убийства встречных производились уже после того, как монголы взяли штурмом столицу Тангутского царства и перебили всех её защитников, и, таким образом, сохранение тайны смерти Чингиса потеряло смысл. [77]
Итак, убийства, происходившие при перевозке тела Чингисхана, совершались в тех же целях, что и ритуальные убийства, о которых сообщает Марко Поло. Это были человеческие жертвоприношения, отражавшие древнюю традицию, бытовавшую в Центральной Азии ещё во времена орхоно-алтайских тюрок, традицию, выражавшую идею «служения в загробном мире». [78] Конкретный древнетюркский
(71/72)
ритуал, связанный с идеей «служения в загробном мире» перестал существовать по меньшей мере за три столетия до наступления монгольского периода в истории Центральной Азии, общие представления, связанные с этим ритуалом, продолжали жить, хотя и проявлялись в иных обрядовых формах.
[1] Л.А. Евтюхова, Каменные изваяния Южной Сибири и Монголии, — «Материалы и исследования по археологии СССР», №24 («Материалы и исследования по археологии Сибири», т. I), М., 1952, стр. 102-114; Каменные изваяния Северного Алтая, — «Труды Государственного исторического музея», вып. XVI, М., 1951, стр. 128-130.
[2] Наши материалы по одежде, изображенной на каменных изваяниях, были просмотрены Н.Ф. Прытковой.
[4] Л.А. Евтюхова, Каменные изваяния Южной Сибири и Монголии, стр. 81, рис. 17, 2, 85, рис. 22, 2, стр. 92, рис. 34, стр. 102, рис. 56.
[5] Там же, стр. 97, рис. 46, 2, стр. 99, рис. 48, 2.
[6] Л.А. Евтюхова, Каменные изваяния Южной Сибири и Монголии, стр. 97 и сл., 73-77, 103, рис. 2, 2, 3, 1-3, 4, 5-2, 6, 2, 7, 2, 56.
[7] Там же, стр. 103.
[8] Там же, стр. 79 и сл., 103 и сл., рис. 14, 55.
[9] Там же, стр. 96, 103 и сл., рис. 45, 1, 55.
[11] А.Д. Грач, Каменные изваяния западной Тувы. (К вопросу о погребальном ритуале тугю), — «Сб. Музея антропологии и этнографии», т. XVI, 1955, стр. 413-416, рис. 13.
[12] В.В. Радлов, Атлас древностей Монголии, вып. 1, СПб., 1892, табл. XV, 2; Л.А. Евтюхова, Каменные изваяния Южной Сибири и Монголии, стр. 103 и сл., рис. 59.
[13] Л.А. Евтюхова, Каменные изваяния Южной Сибири и Монголии, стр. 98 и сл., 103, рис. 47, 3, 58, 1.
[14] С. Trever, Excavations in Northern Mongolia (1924-1925), Leningrad, 1932, ав. 23, 3-4; Л.А. Евтюхова, Каменные изваяния Южной Сибири и Монголии, стр. 104, рис. 60.
[15] А.В. Адрианов, Путешествие на Алтай и за Саяны, совершённое в 1881 г., — «Записки Русского географического общества (по общей географии)», т. 11, СПб., 1886, стр. 416-418, табл. III, 4; С.Р. Минцлов, Памятники древности в Урянхайском крае, — «Записки восточного отделения Русского археологического общества», т. XXIII, Пг., 1916, стр. 299 и сл,, табл. IV, 1, V, 1; Л.А. Евтюхова, Каменные изваяния Южной Сибири и Монголии, стр. 91 и сл., рис. 33; А.Д. Грач, Каменные изваяния Западной Тувы..., стр. 416-420, рис. 14-17.
[16] Л.А. Евтюхова, Каменные изваяния Южной Сибири и Монголии, стр. 83 и сл., рис. 20; А.В. Адрианов, Путешествие на Алтай и за Саяны..., стр. 419-421, табл. II, 9; С.Р. Минцлов, Памятники древности в Урянхайском крае, стр. 300, и сл., табл. V, 2; А.Д. Грач, Каменные изваяния Западной Тувы..., стр. 420, рис. 18.
[17] Л.А. Евтюхова, Каменные изваяния Южной Сибири и Монголии, стр. 40, рис. 23, 1.
[19] А.Д. Грач, Каменные изваяния западной Тувы..., стр. 407, рис. 5, а.
[20] Л.А. Евтюхова и С.В. Киселёв, Отчёт о работах Саяно-Алтайской археологической экспедиции в 1935 г., — «Труды Государственного исторического музея», вып. XVI, М., 1941, рис. 17, 23. — Ср. В.П. Левашева, Из далёкого прошлого южной части Красноярского края, Красноярск, 1939, табл. XVI, 2, 3.
[21] «Материалы по археологии Кавказа», т. VIII, М., 1900, табл., CXXIII, 3; Л.А. Евтюхова, Каменные изваяния Южной Сибири и Монголии, стр. 105.
[22] А.М. Покровский, Верхне-Салтовский могильник, — «Труды XII археологического съезда», т. I, табл. XXI, рис. 25; Л.А. Евтюхова, Каменные изваяния Южной Сибири и Монголии, стр. 105.
[23] М.П. Грязнов, Древние культуры Алтая, — «Материалы по изучению Сибири», вып. 2, Новосибирск, 1930 (табл. прил., рис. 166); Л.А. Евтюхова, Каменные изваяния Южной Сибири и Монголии, стр. 105 и сл., рис. 62, 9.
[24] М.П. Грязнов, История древних племён Верхней Оби. По раскопкам близ с. Большая Речка, — «Материалы и исследования по археологии СССР», №48, М.-Л., 1956, табл. LIII.
[25] «Archeologia Hungarica», Bd XVI, 1934, Taf. VI, 5.
[26] J. Hampel, Altertümer des frühen Mittelalters in Ungarn, Braunschweig, 1905, Bd III, Taf. 276, 18; Bd III, Taf. 277, 1; Bd III, Taf. 278, II.
[27] Л.А. Евтюхова, Каменные изваяния Южной Сибири и Монголии, стр 79-81, 111, рис. 14, 17, 2, 67, 11, 12, 17.
[28] Там же, стр. 98, 111, рис. 47, 67, 17.
[29] А.Д. Грач, Каменные изваяния западной Тувы..., стр. 406, рис. 3.
[30] Л.А. Евтюхова, Каменные изваяния Южной Сибири и Монголии, стр. 79, 112 и сл., рис. 12, рис. 68, 1.
[32] «Записки Русского археологического общества», т. XI, вып. 1-2 (новая серия); «Труды Общества славянской и русской археологии», кн. 4, стр. 316, 322; Л.А. Евтюхова, Каменные изваяния Южной Сибири, и Монголии, стр. 112, рис. 68, 3.
[33] В. Саханев, Раскопки на Северном Кавказе, — «Известия археологической ко миссии», вып. 56, 1914, табл. III; Л.А. Евтюхова, Каменные изваяния Южной Сибири и Монголии, стр. 112 и сл., рис. 68, 4.
[34] «Отчёт археологической комиссии», СПб., 1891, стр. 128; Л.А. Евтюхова, Каменные изваяния Южной Сибири и Монголии, стр. 113, рис. 68, 5.
[35] А.Д. Грач, Археологические раскопки в Монгун-Тайге и исследования в центральной Туве. (Полевой сезон 1957 г.). — «Труды Тувинской комплексной археолого-этнографической экспедиции Института этнографии АН СССР», т. I, М.-Л., 1960, стр. 32, рис. 31, 33, 34, а.
[36] С.И. Вайнштейн, Археологические раскопки в Туве в 1953 году, — «Учёные записки Тувинского научно-исследовательского института языка, литературы и истории», вып. II, Кызыл, 1954, стр. 148-151, табл. VIII, 9.
[37] Л.А. Евтюхова и С.В. Киселёв, Отчёт о работах Саяно-Алтайской археологической экспедиции 1935 г., рис. 15, 110, табл. III.
[38] В.П. Левашева, Два могильника кыргыз-хакасов, — «Материалы и исследования по археологии СССР», №21 («Материалы и исследования по археологии Сибири», т. I), М., 1952, рис. 5, 5-8.
[39] Л.А. Евтюхова, Археологические памятники енисейских кыргызов (хакасов), рис. 128.
[40] Н. Fettich, Metallkunst der landnehmenden Ungarn, — «Archeologia Hungarica», Bd XXI, 1937, Taf. XVII, 1-4, Taf. XVIII, 26-29.
[41] Л.А. Евтюхова, Каменные изваяния Южной Сибири и Монголии, стр. 108 и сл. — См. также приведённые выше работы С.И. Вайнштейна и X. Феттиха.
[42] С.И. Вайнштейн. Археологические раскопки в Туве в 1953 году, стр. 148, 150 и сл., табл. VII, VIII, 9.
[43] Материалы наших раскопок, проведенных в Саглынской долине (1960 г.).
[45] Ю. Талько-Грынцевич, Материалы к палеоэтнологии Забайкалья. Иркутск, 1902, табл. VI, с, d.
[46] «Чуйская долина. Труды Семиреченской археологической экспедиции» (составлены под рук. А.Н. Бернштама), — «Материалы и исследования по археологии СССР», №14, 1950, табл. XLIV, 9.
[47] Л.А. Евтюхова, Каменные изваяния Южной Сибири и Монголии, стр. 83 и сл.; 109, рис. 20, 65, 1, 2; А.Д. Грач, Каменные изваяния западной Тувы..., стр. 419. 16б, 17.
[48] Л.А. Евтюхова и С.В. Киселёв, Отчёт о работах Саяно-Алтайской археологической экспедиции в 1935 г., стр. 79, 81-83, рис. 12, 13, 17, 18, 34; С.В. Киселёв, Древняя история Южной Сибири, М., 1951, стр. 541, табл. 11.
[49] Объекты ТКЭАН/MT-57-XXXVI, ТКЭАН/МT-58-IV, X.
[50] Л.А. Евтюхова, Каменные изваяния Южной Сибири и Монголии, стр. 110.
[51] Л.П. Потапов, Очерки по истории алтайцев, М.-Л., 1953, стр. 144. — Одна из таких сумок была доставлена Л.П. Потаповым в Государственный музей этнографии народов СССР (Ленинград).
[53] «Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Рубрука», М., 1957, стр. 96.
[54] Изваяния №1, 2, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 22, 24, 29, 34, 37, 42, 43, 44, 52, 53, 55, 57. Л.А. Евтюхова приводит подсчёт изображений сосудов по изваяниям опубликованной ею группы: Алтай — 14 фигур из 29, Тува — 29 из 44, Хакассия— 4 из 6, Монголия — 11 из 23 (Л.А. Евтюхова, Каменные изваяния Южной Сибири и Монголии, стр. 106).
[56] Л.А. Евтюхова и С. В. Киселёв, Отчёт о работах Саяно-Алтайской археологической экспедиции в 1935 г., стр. 103, табл. I, 1, 2.
[57] Там же, стр. 113, табл. II, 2, 3.
[58] Я.И. Смирнов, Восточное серебро, табл. XCIV, 181.
[59] Там же, табл. XCV, 184-193.
[60] Л.А. Евтюхова и С.В. Киселёв, Чаатас у села Копёны, — «Труды Государственного исторического музея», вып. XI, М., 1940, табл. III-IV; С.В. Киселёв, Древняя история Южной Сибири, табл. LVI, 1, 2.
[61] Я.И. Смирнов, Восточное серебро, табл. ХСII, 170, 171; П.М. Мелиоранский, Два серебряных сосуда с енисейскими надписями, — «Записки восточного отделения русского археологического общества», т. XIV, вып. 1, СПб., 1902, стр. 17-22; Небольшая орхонская надпись на серебряной кринке Румянцевского музея, — «Записки восточного отделения Русского археологического общества», т. XV, вып. 1, СПб., 1903, стр. 34.
[63] Л.А. Евтюхова и С.В. Киселёв, Чаатас у села Копёны, табл. V.
[65] Я.И. Смирнов, Восточное серебро, табл. XIII, 176-178, табл. XCIV, 179-180; Л.А. Евтюхова, Каменные изваяния Южной Сибири и Монголии стр. 108, рис. 63, X.
[66] Л.Р. Кызласов, Тува в составе уйгурского каганата (VIII-XI вв.), — «Учёные записки Тувинского научно-исследовательского института языка, литературы и истории», вып. VIII, Кызыл, 1960, стр. 153. — Упоминание в заглавии XI, а не IX в., повидимому, является опечаткой, так как уйгурский каганат был разгромлен кыргызами еще в 840 г.
[67] А.П. Ковалевский, Книга Ахмеда Ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу в 921-922 гг. (Статьи, переводы и комментарии), Харьков, 1956, стр. 128. — Ср. «Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу». Перевод и комментарии под ред. акад. И.Ю. Крачковского, М.-Л., 1939, стр. 63.
[68] Автор перевода и комментария к сочинению Ибн-Фадлана А.П. Ковалевский делает ряд важных примечаний к цитированному нами отрывку из книги арабского путешественника. По мнению А.П. Ковалевского, термин «отрок» соответствует двум значениям: «юноша, только что вышедший из детского возраста», и «молодой слуга, занимающий особо привилегированное положение». Свой вывод А.П. Ковалевский аргументирует тем, что гулям (отрок) Такнн играл значительную роль в дипломатических сношениях экспедиции Ибн-Фадлана с царём волжских булгар, а представителей булгарского царя при экспедиции был опять-таки «отрок» («Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу», стр. 97, прим. 154, 156). Что касается самих деревянных фигур, изображавших слуг в загробном мире, то это были крупные фигуры, высеченные топором (М.П. Ковалевский, Книга Ахмеда Ибн-Фадлана..., стр. 187, прим. 252).
[69] «Codex Cumanicus bibliothecae at templum Divi Marci Venotiarum», Budapest, 1880, p. 222; В. Бартольд, К вопросу о погребальных обрядах турок и монголов. — «Записки Восточного отделения Русского археологического общества», т. XXXIV, стр. 3 и сл.
[70] А.Н. Самойлович, К истории и критике Codex Cumanicus, — «Доклады Российской Академии наук», 1924, апрель — июнь, Л., стр. 386; «Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Рубрука», стр. 102.
[71] Основные публикации, содержащие сводки фигур юга России: Н.И. Веселовский, Современное состояние вопросов о «каменных бабах», или «балбалах», — «Записки Одесского общества истории и древностей», т. XXXII, 1915; С.А. Плетнёва, Печенеги, тюрки и половцы в южнорусских степях, — «Труды Волго-Донской археологической экспедиции», т. I («Материалы и исследования по археологии СССР», №62), М.-Л., 1958.
[72] Всего В.А. Городцовым было раскопано восемь курганов со статуями [В.А. Городцов, Результаты археологических исследований в Изюмском уезде Харьковской губернии 1901 года, — «Труды XII археологического съезда в Харькове (1902)», т. I, М., 1905, стр. 215].
[73] Марко Поло, Путешествие. Пер. со ст.-франц., Л., 1940, стр. 61.
[74] Там же, стр. 62. — В.В. Бартольд указал в своё время на известную гиперболизацию в тексте числа убитых (В. Бартольд, К вопросу о погребальных обрядах турок и монголов, стр. 10).
[76] Там же, стр. 258.
[77] Из позднейших историков Д’Оссон склонялся к мнению, что массовые убийства встречных жителей совершались монголами не в силу ритуала, а с целью сохранить в тайне смерть кагана. На ошибочность этого мнения указал В.В. Бартольд в своей известной работе о погребальных обрядах тюркских и монгольских народов (В. Бартольд, К вопросу о погребальных обрядах турок и монголов, стр. 64).
[78] Г.Е. Грумм-Гржимайло, исходя из отсутствия в китайских хрониках прямых свидетельств о человеческих жертвах при похоронных обрядах тюрок, делает вывод, что они, как правило, у тюрок не производились. В то же время он приводит одно крайне любопытное высказывание Менандра, который писал со слов византийского посла Валентина: «В один из дней сетования четверо скованных военнопленных уннов приведены были к Турксанфу для принесения в жертву вместе с их конями
(71/72)
умершему отцу его Дильзивулу. Турксанф приказал им, перейдя в иной мир, передать Дильзивулу...» [Г.Е. Грумм-Гржимайло, Западная Монголия и Урянхайский край, т. II. (Исторический очерк этих стран в связи с историей Средней Азии), Л., 1926, стр. 215].
|