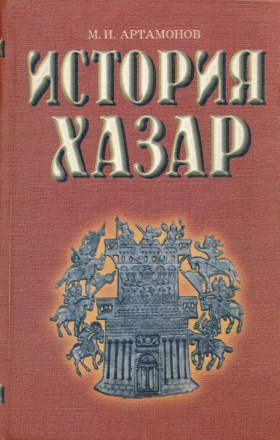 М.И. Артамонов
М.И. Артамонов
История хазар.
/ Издание второе. СПб: «Лань». 2001. 688 с.
ISBN 5-8114-0377-1 («Мир культуры, истории и философии»)
С.А. Плетнёва.
Михаил Илларионович Артамонов (1898-1972).
[На основе статьи 1998 г. в «Российской археологии»,
с изменениями и дополнениями.]
М.И. Артамонов прочно вошёл в число основоположников российской археологии XX в. Это время мало подходило для развития нашей науки. Стоять на переднем крае археологии было и трудно и опасно. Для многих учёных это кончилось трагически, М.И. Артамонов избежал самого страшного конца, хотя неоднократно очень близко подходил к рубежам, от которых редко возвращались коснувшиеся их. Он выстоял, не потеряв при этом человеческого достоинства, чести и разума. Никогда он не опускался до конъюнктуры в науке, до вертлявого соглашательства в жизни. И если первое грозило только карьере учёного, то отсутствие «гибкости» нередко приводило людей к крушению жизни. Однако и ему неоднократно приходилось отступать или, если это было возможно, отмалчиваться, сохраняя внешнее спокойствие. М.И. Артамонов всегда был очень сдержанным, строгим, холодноватым и закрытым – этому его научили обстоятельства той эпохи, в которой он жил и работал.
Основные этапы научной деятельности, а значит, и жизни учёного прослеживаются по его трудам, всё ещё живым и «злободневным», полным интереснейших находок, открытий и гипотез. Многие из них подтверждаются и развиваются работами его учеников и последователей, некоторые горячо дискутируются. А это очевидное свидетельство того, что книги М.И. Артамонова по-прежнему не стоят без дела на полках, а работают, являясь «настольным чтением» и руководством для специалистов.
(5/6)
Круг этих специалистов очень широк, поскольку необычайно обширен был диапазон интересов и знаний самого М.И. Артамонова. Прав был Л.С. Клейн, который писал, что, что серьёзно, пожалуй, Михаил Илларионович не занимался только изучением палеолита. Все остальные вопросы, встающие перед археологом, – от методики полевых работ до происхождения и расселения индоевропейцев – становились предметами его исследования. Однако особенно пристальное внимание он уделял трём проблемам: истории и искусству скифов, происхождению славян и истории средневековых кочевников. К этим трём направлениям относится подавляющее большинство его работ (книг, статей, лекций). Именно в этих исследовательских направлениях работали и работают сейчас его ученики и ученики его учеников, но никто из нас не смог подняться до энциклопедического уровня учителя.
А начал он свой путь в науку сравнительно поздно. Как и многие его сверстники, в 1916 г. М.И. Артамонов был мобилизован и отправлен на фронт, а в следующем году началась революция, в которой он на первых порах принял активное участие: в феврале был избран в Совет солдатских депутатов, в октябре назначен секретарём дивизионного комитета Северного фронта, а позже переведён руководителем бывшего Международного банка в Петрограде. В 1918 г. после тяжелого тифа М.И. Артамонов уехал в г. Красный Холм Тверской губернии, где работал заведующим отделом дошкольного образования, заведующим школой, учителем. Только в 1921 г. он вернулся в Петроград и поступил в Археологический институт, который в 1922 г. присоединили к университету.
Студенту Артамонову повезло – его учителями были профессора А.А. Спицын, Н.П. Сычёв, А.А. Миллер, Д.В. Айналов.
(6/7)
Семинары и лекции этих замечательных учёных формировали взгляды, целеустремлённую направленность, художественные вкусы будущего археолога. В 1924 г. он окончил факультет общественных наук Ленинградского университета (отделение археологии и истории искусств) и был оставлен ассистентом ЛГУ, а затем переведён в Государственную академию истории материальной культуры (ГАИМК).
Первую самостоятельную экспедицию – разведки на Нижнем Дону – М.И. Артамонов провел в 1929 г. С этих пор степи и их обитатели (от бронзы до средневековья), этническая история, проблемы сложения и взаимодействия степных культур стали предметами его исследований.
Период «первичного накопления «знаний молодым ученым завершился выходом в свет «краеугольной», как её называют, специалисты, статьи M.И. Артамонова «Совместные погребения в курганах со скорченными и окрашенными костяками» (1934). Она долгие годы имела самый широкий резонанс во всем археологическом мире, сразу выдвинув М.И. Артамонова в ряд ведущих археологов страны. За эту работу ему без защиты диссертации была присвоена кандидатская степень.
Несмотря на то, что его первые археологические работы были направлены на исследование и обобщение материалов ранних эпох, в разведках и музейных коллекциях он столкнулся и начал параллельно изучать не менее сложные вопросы, связанные со слабоизвестными памятниками средневековых степных народов, в частности хазар.
Проведённые на Нижнем Дону разведки убедили учёного в необходимости раскопок почти уже стёртого с лица земли многочисленными казачьими грабительскими карьерами Левобережного Цимлянского городища. В год присуждения ему высокой в то время степени кандидата наук М.И. Артамонов
(7/8)
начал раскопки остатков этого исключительно интересного памятника хазарской и древнерусской культуры – Саркела – Белой Вежи (сезоны 1934-1936 гг.).
Начался период стремительного подъёма, фундаментом которого были результаты самозабвенного труда прошедшего десятилетия. В 1935 г. опубликована книга М.И. Артамонова «Средневековые поселения на Нижнем Дону», не устаревшая до настоящего времени. В ней представлены материалы с ряда обследованных автором памятников, их интерпретация и исторические выводы, опирающиеся на строго выверенные археологические факты. Это классика археологии. Именно такие работы краеугольными камнями легли в фундамент нашей науки. Уже и в этой работе, посвящённой памятникам Хазарского каганата, Михаил Илларионович с абсолютной убедительностью доказал тождество Левобережного городища с неоднократно упоминавшимся в письменных источниках Саркелом – Белой Вежей. До этого исследования важный для истории обеих государств вопрос казался нерешаемым и бесконечно спорным.
Едва успели высохнуть от типографской краски страницы «Средневековых поселений», как появилась ещё одна книга – «Очерки древнейшей истории хазар». В ней впервые был дан обзор истории кочевников европейских степей, объединившихся под властью хазар. Археологические материалы не вошли в эту небольшую по объёму книгу. При необходимости их привлечения он ссылался на свою предшествующую работу. Только через четверть столетия вновь появился его труд о хазарах, значительно более полный и фундаментальный, но об этом ниже.
А в это время в ГАИМК произошли изменения. ГАИМК была преобразована в Институт истории материальной культуры (ИИМК), который стал одним из институ-
(8/9)
гов Академии наук СССР. В 1938 г. директором этого института был назначен профессор М.И. Артамонов (это звание он получил в 1935 г.).
Он понимал сугубую необходимость для учёного видеть свою работу опубликованной, т.е. читаемой и обсуждаемой хотя бы узким кругом специалистов. Это непременное условие для развития любой науки – без обмена информацией она гибнет. Поэтому, оглядевшись на новом посту, он основал серию сборников «Краткие сообщения ИИМК», в которых археологи могли опубликовать результаты своих полевых исследований. Этот бесценный ручеёк информации просуществовал более полстолетия – в 1991 г. вышел его последний номер. [перерыв в издании КСИА – с 1993 по 2001 г.] Основанные в 1936 г. Музеем антропологии и этнографии сборники «Советская археология» также перешли в ведение ИИМК, и их редактором стал М.И. Артамонов. «Советскую археологию» значительно разгрузили от мелких заметок о результатах небольших сезонных раскопок, которые начали печататься в «Кратких сообщениях». Наряду с обязательной публикацией материалов в «Советской археологии» стали помещать серьёзные обобщающие историко-археологические исследования, что сразу выдвинуло этот сборник на уровень лучших европейских журналов. Этот журнал жив и поныне.
В 1940 г. была основана ещё одна серия «сборников» – «Материалы и исследования по археологии СССР». В ней археологи получили возможность печатать монографические исследования, публиковать результаты больших полевых работ и открытий. Вышло более полутора сотен этого поистине бесценного издания. В начале 1970-х гг. его прикрыли, заменив надуманно засушенными, регламентированными «Сводами археологических источников», погубившими самой формой издания много хороших книг.
(9/10)
В 1940 г. в «Советской археологии» вышла одна из самых значительных статей М.И. Артамонова, в которой он поставил вопрос о принадлежности салтово-маяцких памятников и материалов культуре Хазарского каганата. Высказанные в ней гипотезы долгое время после её опубликования вызывали раздражённые возражения у ряда учёных, но исследователи этой культуры всё более склоняются к тому, что М.И. Артамонов был прав, а гипотезы, высказанные им, примерно на четверть столетия определили своё время.
В настоящее время можно только удивляться тому, что М.И. Артамонов, предельно загруженный обязанностями директора, к 1941 г. успел подготовить докторскую диссертацию на тему, которой он занимался, судя по отсутствию больших работ по данной тематике, эпизодически. Казалось, что его научные интересы сосредоточены на исследовании раннесредневековых памятников источников по истории Восточной и Южной Европы. Однако они вовсе не ограничивались средневековьем. Кочевники, проблемы их оседания, образование степных государств изучались им на значительно более информативном материале, в основном археологическом, но с привлечением хорошо известных письменных источников. Диссертация учёного называлась «Скифы». Так полновесно заявила о себе третья проблема, которую разрабатывал исследователь. Скифами и их искусством М.А.[М.И.] Артамонов занимался до конца своей жизни.
Началась война. Ленинград опустел, многие и многие учёные погибли на фронтах и в блокаде, часть была в ссылке. Уцелевшие частью переехали в Москву и в эвакуацию (в Поволжье, на Урал, в Среднюю Азию). Жизнь в ИИМКе замерла, переместившись в Московское отделение, которое в 1943 г. официально стало центральным. В Ленинграде
(10/11)
осталось отделение (ЛОИИМК). Вернувшись из эвакуации в 1945 г., М.И. Артамонов подал заявление об отставке. Это событие не помешало научной работе. В войну М.И. Артамонов, как и другие учёные, публиковался мало. Это, конечно, не означало, что он не работал, т.е. не думал и не писал. Об этом свидетельствовали прежде всего около 20 его статей, вышедших в первые послевоенные годы (1945-1948 гг.). Среди них заметное место занимали работы, посвящённые славянскому этногенезу, а также целый «куст» статей и рефератов по скифской тематике. Читать их и сейчас интересно и поучительно. Следует признать, что многие поставленные в них проблемы и варианты решений этих проблем или отдельных вопросов в настоящее время находят подтверждение в открытых археологами в последующие полстолетия материалах.
Что касается «скифских» статей, то большая часть их, судя по сноскам в трудах современных скифологов (Д.С. Раевского, Е.В. Черненко и др.), не устарела и в наше время.
В эти же послевоенные годы, освободившись от административной нагрузки, М.И. Артамонов начал большие для того времени стационарные работы в Южной Подолии на скифском Немировском и раннеславянском Григоровском городищах. В то время он совсем отошёл от хазарской тематики.
Вновь резко изменилась направленность научных интересов Михаила Илларионовича в сторону Хазарского каганата в 1949 г., когда именно ему было поручено проведение одной из первых новостроечных экспедиций – Волго-Донской (по территориальному, хронологическому и финансовому размаху она, несомненно, была первой). Экспедиция должна была исследовать возможно большее количество памятников, находившихся на землях, которые предназначались под затопление так называемым Цимлянским морем.
(11/12)
Средства на раскопки экспедиция получила от стройки, практическими руководителями которой, как на Беломорканале, были сотрудники НКВД. Стройка снабжала археологов техникой и, главное, рабочей силой, состоявшей из 100 женщин-заключённых и нескольких бандитов-скреперистов, один из которых, как говорили, имел судимостей в целом на 125 лет. Все они жили в специально выделенной для них зоне, огороженной от нас колючей проволокой с вышками и охраняемой молоденькими солдатами-узбеками под командованием лейтенанта. Я останавливаюсь здесь на этих подробностях для того, чтобы было понятно, с какой сложной ситуацией пришлось столкнуться в этой экспедиции М.И. Артамонову. Помимо «исправительно-трудового контингента», в экспедиции ежегодно работали примерно 100 сотрудников. В основном это была весьма буйная студенческая компания. Надо сказать, что работали студенты самоотверженно. Тон в работе задавал сам М.И. Артамонов, его помощники и старшие сотрудники, которых было совсем немного, поскольку они были рассредоточены по отрядам.
В последний, самый напряжённый год работы экспедиции (1951) он был «высочайшим повелением» назначен директором Эрмитажа. В связи с этим он исчезал из Саркела надолго, и вся тяжесть руководства пала на его заместителей – О.А. Артамонову, А.Д. Столяра и др.
Начался длительный – 13-летний– период его эрмитажного директорства.
Надо сказать, что Эрмитаж заметно пополнился при М.А.[М.И.] Артамонове молодёжью – в основном выпускниками ЛГУ и других высших учебных заведений Ленинграда. Кроме того, тогда же начали появляться возвращавшиеся из ссылок и лагерей учёные. Им – людям старшего поколения – нужно было помочь быстрее опубликовать
(12/13)
и защитить неоконченные до ареста диссертации, молодёжи также были необходимы публикации для вхождения в большую науку. Поэтому, как в своё время в ИИМКе, М.И. Артамонов начал с организации эрмитажного издательства и учреждения нового издания – «Археологического сборника» под своей редакцией.
М.И. Артамонов обращал особое внимание на те проблемы, которые нуждались в его активном вмешательстве. Многочисленные менее существенные и текущие дела он препоручал своим очень сильным заместителям – Б.Б. Пиотровскому и В.Ф. Левинсону-Лессингу.
Как уже говорилось, М.И. Артамонов в те годы в силу сложившихся обстоятельств (организация экспедиции) обратился к хазарским проблемам. Главным было, конечно, его стремление закончить начатый ещё в 1930-е гг. труд о Хазарском каганате. Результаты экспедиции нашли отражение в ряде его больших статей (свыше 10), вышедших у нас и за рубежом. Под его редакцией были подготовлены к печати и опубликованы три тома «Трудов Волго-Донской экспедиции» (в серии МИА) и запланированы ещё два, не вышедшие в свет из-за ликвидации самого издания. Зато в эрмитажном издательстве в 1962 г. вышла, наконец, фундаментальная книга «История хазар». Этот поистине энциклопедический труд не был «трудом всей его жизни», как принято говорить, подчёркивая значительность сделанной работы. Однако вот что пишет сам автор: «не менее 25 лет этот труд лежал на моём рабочем столе. Время от времени я возвращался к нему, исправлял, дополнял, перестраивал». И далее: «Очень сожалею, что в изложении мне приходится иногда уклоняться к полемике по некоторым вопросам. Я не имел возможности представить свои объяснения и возражения по этим вопросам в каком-либо ином
(13/14)
месте, и вынужден поэтому включить их в текст настоящего труда».
Почему же возникла необходимость полемики? В 1951 г. в «Правде» появилась маленькая, по существу анонимная (подписана никому не известным товарищем Ивановым) заметочка о завышении роли иудейского государства – Хазарского каганата, явно направленная против М.И. Артамонова. Этого краткого «ату его», напечатанного в руководящей газете в разгар борьбы с «врачами-отравителями», было достаточно для начала травли. Выступили многие, доказывая предвзятость и несостоятельность высказываемых учёным положений о существовании Хазарского каганата и его культуры. Это мощное степное государство надолго «выпало» из истории нашей страны. Странно, но до сих пор во многих изданиях, на географических картах каганат по-прежнему изображается «паразитарным кочевым ханством», расположенным на территории современной Калмыкии.
М.И. Артамонов мужественно перенёс эту тяжёлую и неожиданную напасть. Он вынужден был переработать целые разделы, чтобы обезопасить её от цензурных капризов и запретов публикации. Впрочем, всё, что он хотел сказать, в том числе и ответы своим противникам, М.И. Артамонов сказал, только местами смягчил или изменил акценты. Это далось ему с трудом – он не привык к конъюнктуре. Редактором книги он просил быть Л.Н. Гумилёва, только что (в 1956 г.) вернувшегося из ссылки и почти сразу же [в 1961 г.] защитившего докторскую диссертацию. Видимо, М.И. Артамонов всё-таки не захотел привлекать к работе над ней тех, что в начале «антихазарской», а вернее, «антиартамоновской», кампании не встал рядом и побоялся поддержать его.
Работая по истории и культуре степных народов эпохи средневековья, М.И. Артамо-
(14/15)
нов не оставил и скифскую проблематику. Выходят его большие статьи, наполненные, как всегда, тонкими наблюдениями и смелыми гипотезами, связанными между собой железной артамоновской логикой. Они были посвящены кардинальным вопросам скифской истории: происхождению скифов и их искусства, этногеографии Скифии, некоторым аспектам их религиозных представлений и т.д.
Проблемы, связанные с этногенезом, постоянно находились в сфере его пристального внимания. Это прослеживается во всех его скифских статьях, а также в работах, посвящённых славянам, написанным и опубликованным в последнее десятилетие.
Кажется весьма вероятным, что последняя экспедиция (в 1954 г. М.И. Артамонов принял предложение Болгарской Академии наук возглавить советско-болгарскую экспедицию, однако руководить ею не смог: невозможно было отрываться от Эрмитажа на целый месяц) сыграла известную роль в обращении учёного к вопросам тесных контактов и возможного слияния славян с иными этносами. Он писал об этом в предисловии к книге Ж. Выжаровой о раскопках в Попино и далее не раз возвращался к этой теме в докладах о связях хазар и Руси по археологическим данным, о сложении славяно-русского этноса, о славянах и проболгарах [праболгарах], а также в серии статей и докладов о пеньковской (пастырской) культуре, в которых он считал возможным относить эту культуру к утригурам, смешавшимся на позднем этапе существования культуры со славянами.
Дискуссионность многих положений этих работ очевидна, но не исключено, что многие высказанные им гипотезы будут подтверждены новыми открытиями последующих поколений археологов, как случилось это с открытиями, доказавшими существование
(15/16)
Хазарского каганата и высокой культуры этого степного государства.
Подчеркну, что во всех своих теоретических или обобщающих статьях Михаил Илларионович, как правило, опирался на археологические материалы. Это было характерно как для первой его серьёзной работы о совместных погребениях, так и для работ, написанных в период творческого расцвета (в 1950-1960-е гг.). Он был настоящий археолог, пользующийся в первую очередь именно археологическими материалами и источниками и их возможностями при доказательствах тех или иных теоретических обобщений. Этому наряду с требованием широкого историографического охвата исследуемой проблемы он учил и своих учеников.
Интерес М.И. Артамонова к древнему и современному искусству, классике и современной литературе и его знания по этим по этим вопросам всегда влекли к нему молодых и не очень молодых единомышленников. Он много читал, любил стихи (в молодости сам писал и печатался), всегда имел своё мнение о прочитанном и довольно откровенно делился им с собеседниками. Причём существенно, что читал он далеко не только то, что печаталось в наших процензуренных журналах, но и рукописный «Архипелаг ГУЛАГ», и «Реквием», и вышедшего за рубежом «Доктора Живаго», и многое другое. Увлечение импрессионистами и современной живописью привело директора Эрмитажа к очевидному и полному разрыву с министром культуры Фурцевой, которая в конце концов, воспользовавшись некоторыми резкими высказываниями М.И. Артамонова в весьма широкой аудитории, открытием в Эрмитаже сначала выставки Пикассо, а затем молодого «рабочего» музея Шемякина, добилась снятия Михаила Илларионовича с должности директора. Это произошло в 1964 г.
(16/17)
Сложившееся, ставшее привычным течение жизни было сломлено. М.И. Артамонов часто говорил, что Эрмитаж – тяжкий камень на его шее. Но за долгие годы он стал не только привычен, но любим и необходим, так как в него были вложены силы и нервы Михаила Илларионовича, его стремление завершить многие начатые в музее дела. Эрмитаж попал в не менее заботливые и любящие руки Б.Б. Пиотровского, и это несколько смягчило удар, полученный от капризной невежественной женщины, ведающей культурой в нашей многострадальной стране. Впрочем, М.И. Артамонов никому не давал повода думать, что эта потеря для него болезненна и оскорбительна, поэтому сочувствие ему со стороны многих эрмитажников, друзей и учеников высказывалось сдержанно и предельно деликатно. Беда не приходит одна: почти одновременно с «отставкой» ученого тяжело заболела жена Михаила Илларионовича О.А. Артамонова – верный товарищ и помощник во всех его научных и домашних делах. Это, естественно, также привело к значительным изменениям в жизни – многие заботы легли на его плечи.
Однако опальный директор по-прежнему оставался заведующим кафедрой археологии ЛГУ, профессором, постоянно читающим несколько спецкурсов. В его лекциях, как это было всегда, присутствовали элементы молодой творческой дискуссионности, что придавало им особую привлекательность для студентов.
Этот период его деятельности можно назвать «скифским», так как все книги и ряд наиболее значительных статей были посвящены скифскому искусству – публикации истории скифов, возникновению у них городов и государств, киммерийской проблеме и соотношению киммерийцев и скифов.
В 1971 г. умерли И.И. Ляпушкин – его самый старый ученик и друг; к которому
(17/18)
М.И. Артамонов был искренне привязан, и после мучительной болезни – жена. Эти смерти потрясли его. Но и в этой тяжкой ситуации он не позволил себе распуститься и весной 1972 г. поехал на очередную археологическую конференцию в Одессу с намерением сделать доклад на скифскую тему и вновь (какой уж раз в жизни!) на время переключиться на средневековье. Он планировал поездку в Дагестан, предлагая мне на следующий год организовать большую экспедицию для стационарных раскопок одного из памятников, которые можно связать с хазарами.
Всё кончилось неожиданно. Он умер утром жаркого душного июльского дня, напечатав несколько строк страницы 33 редактируемой им статьи «Первые страницы». У него всегда было не очень здоровое сердце, и постоянные болезненные удары в сочетании с внешним спокойствием и сдержанностью М.И. Артамонова надорвали и буквально разорвали его. Смерть была мгновенной.
М.И. Артамонов, как и многие его современники, прошёл трудный путь, наполненный смертельными опасностями, оскорбительным произволом и надзором за собой, но всегда оставался честным человеком, большим учёным, истинным русским интеллигентом. Таким он остался в памяти всех, кто его знал, и хотелось бы, конечно, чтобы нам удалось в своих воспоминаниях оставить след о нём в душах молодого поколения, идущего нам на смену.
С.А. Плетнёва
наверх
|