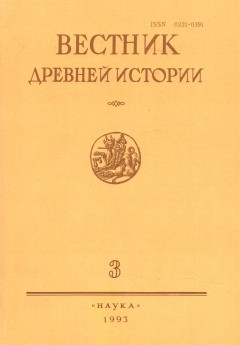 С.А. Жебелёв
С.А. Жебелёв
Из воспоминаний о старом товарище. [О Б.А. Тураеве]
С предисловием И.В. Тункиной и Э.Д. Фролова.
С Б.А. Тураевым мы – старые товарищи. Без малого 34 года минуло с тех пор, как мы – студенты-первокурсники Историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета – познакомились с ним в нашей аlmа mater. Четыре года слушали мы с ним лекции и участвовали в многочисленных тогда – и по древним языкам, и по истории – практических занятиях, сдавали вместе экзамены в государственной комиссии весной и осенью 1890 г., получили на них одинаковые отметки, оставлены были в один день, 1 декабря 1890 г., при университете, утверждены были, опять-таки в один день, 9 сентября 1904 г., профессорами.
За 34 года общения с Борисом Александровичем воспоминаний о нём у меня должно было накопиться достаточно. Но их пока трудно привести в систему: слишком недавно ушёл от нас Борис Александрович. Поэтому то, что я сообщу о нём, будет носить, неизбежно, отрывочный характер.
Curriculum vitae Бориса Александровича, как и большинства истинных мужей науки, не сложное и внешними событиями не богатое. Но внутренние факторы, обусловливавшие эти внешние события, прозрачные по своей яркости и ясности, наложили свой отпечаток на облик Бориса Александровича и как человека, и как учёного, и как общественного деятеля.
Будучи натурою вполне цельною и в некоторых отношениях весьма своеобразною, сохраняя всегда и проявляя во всём свою индивидуальность, Борис Александрович, однако, никогда этой индивидуальности не подчёркивал и лицам, не очень близко знавшим его, мог показаться человеком обыденного типа. Но это далеко не так. Натура Бориса Александровича была совершенно особенного, исключительного, на других не похожего склада. Индивидуальность Бориса Александровича не могла бросаться ярко в глаза всем и каждому потому, что он обладал двумя отличительными свойствами, особенно трогательными в наше время: удивительною скромностью, граничащей подчас не только с застенчивостью, но с каким-то самоотречением, и несомненным отсутствием эгоизма, того эгоизма, который побуждает человека во всём, что бы он ни делал, что бы он ни говорил, всегда заботиться о том, как бы по рельефнее выставить самого себя. Свою «самость» Борис Александрович оберегал зорко и не позволил бы никогда и никому не считаться с нею, тем не менее его «я» никогда не стояло на первом плане. И о людях он судил по делам их, ибо и сам служил, прежде всего, делу, а потом уже людям, как носителям той или иной идеи, совершителям того или иного дела.
Какому же делу посвятил свою жизнь Борис Александрович? Не одному, а двум: одно дело было служение науке, другое дело было служение церкви, церкви православной. Какое из этих двух дел было ближе сердцу Бориса Александровича? Думается, в равной мере и то, и другое. Но думается вместе с тем, что если бы сложившиеся обстоятельства потребовали от Бориса Александровича во что бы то ни стало, без каких бы то ни было отговорок, выбрать непременно одно из этих двух дел и пожертвовать другим, он не задумался бы в своём выборе. И с болью в душе он сказал бы: вы наносите мне неисцелимую рану, вы отнимаете у меня половину моего существования, но хорошо, пусть будет по-вашему … я жертвую наукой, но я не пожертвую церковью.
К счастью, судьба не потребовала от Бориса Александровича такой жертвы. Он имел возможность беспрепятственно и невозбранно, до конца жизни, служить и науке, и церкви. Многих интересовал вопрос, как мог он совмещать служение и науке, и церкви. Ответ дал Борис Александрович
(192/193)
в составленном им некрологе В.В. Болотова. [1] То, что он пишет о глубоко чтимом им учёном, может быть применено и к нему самому. «Наука и церковь были для него тесно связаны; служение первой было в тоже время и подвигом во славу второй. Он был ревностным и верным сыном православной церкви, но вместе с тем и убеждённым сыном; я сказал бы даже, был верным потому, что был убеждённым. Историческая истинность православия была для его критического ума не только верою, но и знанием, очевидным до осязательности». И далее Борис Александрович приводит выдержку из лекции В.В. Болотова [2]: «Вероисповедный характер церковной истории не стоит в противоречии с требованием безусловной правдивости. Истина вероисповедания для христианина есть лишь конкретное выражение истины вообще. Он держится своего вероисповедания потому именно, что видит в нём свидетельство истины в догмате и истории, и обязан отказаться от него, если пришёл к убеждению, что истина не на стороне его церкви. Чувство меры всегда должно служить предостережением против крайнего понимания вероисповедного начала в истории. Правильно понятое, оно даёт место объективности в историческом исследовании. Вера, что истина существует только в православной церкви, не даёт права в истории церквей инославных видеть только тёмные стороны, в их системах – только сцепление логических ошибок, и в православных деятелях не замечать ни нравственных недостатков, ни исторических промахов. Исторический объективный материал господствует над историком, и он должен только осветить его с православной точки зрения, Т.е. указать именно на те стороны факта, которые имеют значение для православных, но не должен видеть во что бы то ни стало свои православные desideria осуществившимися: это повело бы уже к искажению данных истории».
Борис Александрович начал свои занятия с изучения древнего Востока, в частности древнего Египта. Постепенно расширяя и углубляя их, он перешёл к Востоку христианскому, в частности к Египту христианскому. И тут и там интересы его вращаются по преимуществу вокруг вопросов, связанных с религией и богослужебным культом. Магистерская диссертация Бориса Александровича «Бог Тот» [3] представляет главу из истории древнеегипетской религии; его докторская диссертация – «Исследования в области агиологических источников Эфиопии». [4] В «Истории древнего Востока» [5] вопросам, относящимся к религии и культу, отводится очень широкое место; главы, им посвящённые, изложены с особенным подъёмом. Всё это не случайно, всё это органически вытекает из основной стихии Бориса Александровича, его служения церкви.
Где бы ни был Борис Александрович, чем бы он ни занимался, он никогда не забывает церкви и всего с нею связанного. Вот он в Берлине,
(193/194)
штудирует у Эрмана. [6] Сообщив в письме от января 1895 г. о том, как Эрман объясняет птолемеевские тексты, Борис Александрович непосредственно продолжает: «В окрестностях Берлина недавно сооружена новая хорошенькая церковь, стоящая среди лесов и полей и напоминающая не только монастырь, но и целую пустынь. Мы как-то раз во время праздников улучили свободный часок и отслужили там всенощную, оглушив нашим звоном пустынную окрестность. Приятно было послушать на чужбине эти высоко поэтические стихиры и вспомнить готовящихся к празднику соотечественников». И далее в том же письме: «Недавно я посетил славный Лейпциг, был в стенах его университета, посетил музей, книжных торговцев, и даже … архиерейскую службу в греческой церкви … Она помещается прямо в неприличном месте – на третьем этаже наёмного грязного дома, переполненного кабаками и мастерскими. В довершение всего, прислуживает немка-старуха, то и дело снующая в алтарь».
В письме от 29 мая того же 1895 г. Борис Александрович делится со мною своими итальянскими впечатлениями: «Посетил я, между прочим, Grottaferrata, этот монастырь вертопрахов и искариотов-униатов. Пришли мы туда в 11 часов. Спрашиваем, когда служба. Говорят, обедня была рано, а через полчаса начнется утреня и часы … Когда мы пришли в церковь, утреня была уже на конце – читали пасхальные стихиры. Сравнил я невольно нашу чудную службу этой дивной седмицы, это неумолкаемое Христос Воскресе, это торжественное пение канона, это непрестанное каждение и обилие света – с убогим бормотанием под нос сидящих в алтаре отступников, причём не было даже священника в облачении и не было зажжено ни одной свечи».
Где бы ни был Борис Александрович в Европе, православная церковь его всегда и особенно интересует, и к представителям её он относится иногда с беспощадною суровостью. В письме от 25 июля 1897 г. он пишет мне: «Заграничные представители нашей церкви, кроме достопочтенного берлинского причта, по-прежнему конкурируют друг с другом в тунеядстве и ничегонеделании. В Копенгагене не служат всенощную, а в Дрездене батюшка … запер церковь с 15 июля по 15 сентября, Т.е. на 4 двунадесятых праздника и сам завалился на дачу… Зато в Берлине, по-прежнему, неутомимы и энергичны. Гекен готов служить хоть каждый день, несмотря на то, что его приход – целый уезд. Мы с ним изрядствуем и служим заутреню».
В 1909 г. исполнилась заветная мечта Бориса Александровича. Он попал в Египет, где в Каире был тогда Международный археологический конгресс. Сообщив о нём и о делах учёного характера, Борис Александрович неукоснительно мне в письме сообщал: «По части церкви плохо. Не пришлось быть ни в Вербное Воскресенье, ни в Великую Субботу на обедне. Мы с Фармаковским [7] ходили на “Се жених” в Саввин монастырь в Александрию и на Благовещение к обедне в тамошний великолепный собор, где был как раз храмовый праздник. Был я там и на Двенадцать евангелий и на выносе плащаницы. Хорошо! К субботней заутрене приехал уже в Каир, где гораздо хуже. И тут и там архиереи. Толпа, давка и гам в церкви превосходят вероятие. В пасхальную ночь мы пошли в коптский собор, где служил патриарх, потом я ходил в православную церковь к заутрене и к поздней обедне».
(194/195)
В Петербурге ли, в Москве ли был Борис Александрович – время его всегда делилось между наукой и церковью. И как неутомим он был в занятиях наукою, так не знал он устaли и в отстаивании церковных служб. Будучи исключительным знатоком церковного устава, Борис Александрович тщательно выискивал те церкви, где он более или менее строго выполняется. И тут никакие расстояния его не останавливали. Проживая на Васильевском острове, ходил он на Разъезжую улицу, в Александро-Свирское подворье, на Николаевскую улицу в единоверческую церковь, ходил потому, что, как он говорил, там служат хорошо. А «служить хорошо» значило в его глазах справлять службу, по возможности, полно и истово.
На погребении Бориса Александровича один из церковнослужителей, в прощальном слове к нему обращенном, правильно заметил, что Борис Александрович вращался не около церкви, как это многие у нас делали и делают, но что он был в церкви. Борис Александрович был «церковником» в лучшем и чистом значении этого слова. И не нужно смешивать его «церковность» с его «религиозностью». Конечно, он был искренне верующим человеком и какое-либо ханжество было ему а priori чуждо. И он не слепо, а зрячими глазами верил. Было бы неправильно назвать его религиозным фанатиком, но в отношении церковности он, если бы понадобилось, дошёл [бы] до фанатизма в отстаивании того, в чём он был искренне убеждён и что, по его мнению, шло на потребу церкви. Как он был счастлив, когда, после февральского переворота, поставлен был, наконец, вопрос о назревшей реформе церкви! С какой радостью приветствовал он созыв церковного собора! Каким не только ревностным, но пламенным участником его заседаний он был! Сколько надежд возлагал он на результаты занятий собора и как должно было скорбеть его сердце, когда начатое дело не только не было завершено, но, в силу изменившихся обстоятельств, приняло гибельный для его церковности оборот! С каким жаром отдался он в последние два года приходской работе, богословскому институту! С каким трогательным умилением исполнял он обязанности старосты нашей университетской церкви! А когда, по чьей-то злой воле и явному недомыслию, приказано было прекратить в ней богослужение, с какою ревностью стал он, как говорил, «строить» свою церковь в доме №8 по Биржевой линии. И он «построил» её, и лелеял её, и готов был всего себя отдать за неё. Минувшею зимою я сам видел, как он нёс сам по набережной несколько поленьев в церковь.
Незадолго до кончины Борис Александрович принял посвящение в стихарь. В стихаре, как чтеца, согласно его желанию, и положили его в гроб. Если бы Бог продлил веку Бориса Александровича, он, можно быть уверенным в этом, принял бы священнический чин. Борис Александрович жил и умер истинным служителем церкви, вернейшим сыном её. И невольно хочется уподобить Бориса Александровича тем людям, которые в древней церкви назывались исповедниками.
Как учёный, Борис Александрович уже при жизни признан был не только у нас, но и за границей крупной величиной. Но и в служении науке, как и в служении церкви, Борис Александрович был активным деятелем, а не пассивным созерцателем. Учёные познания его не были, как это нередко встречается и в среде крупных учёных, мёртвым капиталом. Учёный капитал Бориса Александровича был пущен им в самый широкий оборот, вложен был в колоссальное предприятие. Это был светильник, который светил всем, «иже во храмине суть». По отношению к своим личным работам Борис Александрович не принадлежал к числу тех, которые с излишней щепетильностью и ревностною боязливостью относятся к их опубликованию и ждут да ждут, пока все точки над i будут поставлены, пока и тени сомнения в правильности выводов не останется. Науке Борис Александрович служил
(195/196)
так и истово и рачительно, как служил он церкви. Он работал даже с какою-то лихорадочную поспешностью, вечно что-либо издавая, описывая, исследуя. Своих знаний он не скрывал под спудом, напротив, стремился поскорее сделать их общим достоянием. Он всегда говорил, что на русском учёном лежит, прежде всего, обязанность двигать науку вперёд во что бы то ни стало, особенно такую «экзотическую», и только что зародившуюся у нас науку, как та, которой он служил с таким рвением и самозабвением. Да, именно с самозабвением, потому что для Бориса Александровича в его учёной деятельности стояла прежде всего сама наука, а затем уже и удовлетворение личных научных интересов. Когда возникал вопрос о том или ином важном научном деле, учёном предприятии, Борис Александрович забывал совершенно себя и весь отдавался этому делу. Нависла опасность потерять для России Голенищевское собрание [8] – Борис Александрович звонит во все колокола, чтобы спасти его. Нужно собрание это переправлять в Москву – Борис Александрович денно и нощно следит за упаковкой. Коллекция благополучно достигает Московского музея изящных искусств, и нужно там размещать, каталогизировать, изучать и пр. – Борис Александрович в течение целого ряда лет, предпринимает длительные, а подчас и очень утомительные поездки в Москву, живёт там на положении студента, питаясь в различных вегетарианских столовых. Эти московские поездки, особенно тягостные за последнее время, Борис Александрович прекратил только тогда, когда всё то, что нужно было по его мнению сделать в Москве для Голенищевского собрания, было сделано им, и он мог начать подумывать о приискании себе преемника. Так всегда и во всём действовал Борис Александрович, когда дело шло о научных интересах. А с какою ревностью ездил Борис Александрович, и ездил систематически, по различных русским городам, где, как он знал, имелись египетские вещи! Как он «охотился» за этими частными собраниями! И при этом он не испрашивал себе ни дальних, ни тем более близких «учёных командировок», не хлопотал о «покрытии путевых издержек». И если бы у него денег не оказалось на такие поездки, он последний сюртук снял бы со своего плеча, а всё-таки поехал бы! Служение науке было у Бориса Александровича совершенно бескорыстное и даже в некоторых случаях материально убыточное для него. Наука никогда не была для него «дойной коровой» и о материальных выгодах, с ней сопряжённых, он не помышлял ни одной секунды. Не было в нём и учёного тщеславия и никогда не выставлял он себя на первое место даже в тех случаях, где это первое место ему принадлежало по праву.
На науку Борис Александрович смотрел как на общечеловеческое достояние. Но к интересам науки в России относился он чутко, присматриваясь к ним зорко. Многие из нас, прошедшие заграничную школу, образуются затем в каких-то «интернациональных» учёных и даже кичатся этим «интернационализмом». Борис Александрович, прошедший также заграничную школу, остался национальным учёным, остался, конечно, потому, что он был русским человеком. Воздавая должное Германии, где он провёл большую часть времени своего заграничного пребывания, Борис Александрович вовсе не обратился в её безусловного поклонника. В августе
(195/196)
1895 г. он писал мне из-за границы: «В этом году немцы устроили две выставки: на французской границе в Страсбурге и на русской в Кёнигсберге. Хотят запугать мир своей скороспелой культурой и новорождённым величием. Будем надеяться, что оно не только новорождённо, но и мертворожденно».
Когда началась великая европейская война и когда начальный оборот её сулил России много великого и хорошего, Борис Александрович как-то раз сказал мне, что он чувствует себя даже недостойным жить в такое время. В малораспространённом журнале «Экскурсионный вестник» за 1915 г. им напечатана замечательная статья «Задачи русской науки на Переднем Востоке в связи с настоящими мировыми событиями». [9] Она очень характерна для мировоззрения Бориса Александровича, и я приведу из неё несколько выдержек: «Провидение судило нам быть современниками великих событий. Через несколько месяцев границы мировых держав будут иные, и мы верим, что наше Отечество в этом отношении окажется в более выгодном положении, чем было до сих пор. Уже дошедшее до своих этнографических пределов и избавившее целую большую ветвь своего коренного племени от позора подъяремности, оно достигает и своих естественных исторических и политических границ, осуществив вековые чаяния и заветы своей истории. Мы верим, что святые места нашей религии и священные области человеческой культуры частью войдут в наши пределы, частью попадут в иные, более выгодные для нас и для науки политические условия. Погребение двух трупов – Австрии и Турции – и парализование разбойничьих поползновений Германии должны создать более здоровую и благоприятную для науки атмосферу и обстановку на дорогом для нас Ближнем Востоке, который казался уже в значительной своей, и притом наиболее близкой к нам части, обречённым на поглощение как материал для новой мировой империи учёных варваров. Ещё Фридрих Вильгельм IV, поклонявшийся Москве с террасы Румянцевского музея, через 25 лет после воссоздания его государства Россией, при содействии египтолога Бунзена, [10] учреждает в Иерусалиме для противодействия влияния России и совращения православных так называемый протестантский епископат, который должен был сделаться вселенским центром протестантизма, но который, вследствие благородной роли англиканства, потерял значительную долю своего агрессивного характера. Тогда воинствующая Пруссия выдвинула другие средства – экономические и научные, имеющие, конечно, целью превращения Турции в прусскую провинцию, каковой она временно стала на наших глазах. Для нас, русских, непонятна подобная профанация религии и науки. Мы привыкли относиться к науке с почитанием почти религиозным и считаем недопустимым пользование ею для каких-либо иных целей, кроме идеальных. Но там и религия, и наука служат мирским целям, подготовляя экономическое преобладание и политические захваты. “Сперва миссионеры, потом консулы, а затем и солдаты”, – сказал ещё абиссинский царь Феодор; если бы он был в Турции, он должен был бы к миссионерам прибавить учёных, особенно археологов. И одно обстоятельство не может не внести неприятных нот в наше преклонение пред теми действительно крупными заслугами, какие оказали делу изучения Ближнего Востока и Deutsche Orientgesellschaft, и Deutsche Palaestina-Verein, и Vorderasiatische Gesellschaft, и другие организации миссионерского и научного характера. Стремления воинствующего германизма не ограничивались Малой Азией, Сирией и Месопотамией – они вторгались в наши пределы. Кавказский
(196/197)
хребет должен был служить границей между австрийским Grossfürstentum Kiew и азиатскими колониями Германии. Для подготовки германской Армении учреждались специальные общества и снаряжались учёные экспедиции … Одновременно с этим Оттоманский музей всё более и более превращался в филиальное отделение берлинского … Волею провидения мы видели крушение планов наших непримиримых исконных врагов; мы верим, что наше торжество будет полным и что классические страны очагов культуры и религии вновь придут в близкую связь с теми, кто имеет на них культурные и исторические “права”».
Служение науке было для Бориса Александровича в полном смысле слова подвигом, ради которого он готов был на какие угодно жертвы и лишения. По окончании университетского курса, во время заграничной командировки, даже первые годы после неё ему приходилось жить со своей матушкой буквально на гроши, получаемые от университета, чтобы сохранить всё время для научных занятий. Борис Александрович не брал никакой посторонней службы, дававшей бы ему заработок. Из Парижа он пишет мне в мае 1895 г.: «Был я в Версале, и он мне очень понравился, ухитрился всеми правдами и неправдами побывать в Сен-Клу и тоже остался доволен. Карманный вопрос не позволяет тратиться на это (т.е. на поездки за город), живу на остатки сумм, надо экономить каждый грош». В 1897 г., когда Борис Александрович был в Берлине, чтобы устроить дело с печатанием своей магистерской диссертации, он пишет мне, что усмотрел в Берлинском музее «немало новых приобретений по египетской части, и в том числе новых томов. Эрман предоставил всё в моё распоряжение. Не знаю только, как быть: фотографии у меня нет, покупать не на что, да и учиться некогда, а заказывать дорого. Придётся, все-таки, решиться на последнее». Чтобы показать на одном примере скромность ресурсов Бориса Александровича, достаточно указать, что путешествовал он по Германии в … IV классе. Так жили молодые учёные 25 лет тому назад!
А когда Борису Александровичу не приходилось уже экономить каждый грош, на что тратит он свои излишки, если вообще можно говорить об излишках у русского учёного типа Бориса Александровича? На покупку книг, на собирание коллекции. Страсть – а это была именно страсть у бесстрастного в общем Бориса Александровича, – к собиранию предметов старины началась у него давно. Еще в феврале 1895 г. он писал мне из Берлина: «Проходя сегодня по одной из берлинских [улиц], я увидел в витрине одного магазина древностей прелестную пальмирскую скульптуру – известного типа женский бюст. Как жаль, что нет лишних денег, а то купил бы. Колбаса (так в шутку называет Борис Александрович антиквара. – С.Ж.) хочет 500 марок». Известно, какую прекрасную коллекцию удалось, в конце концов, составить Борису Александровичу, как он этой коллекцией восхищался, с какою радостью её показывал!
Так делил своё время между служением науке и церкви Борис Александрович. Служение церкви выражалось в посещении церковных служб, а в последние годы и в активной работе по реформе церкви. Служение науке выражалось в постоянных упорных кабинетных и музейных занятиях, в чтении лекций и руководстве своими учениками, в деятельности в учёных обществах, преимущественно Русском археологическом. К общественной, а тем более к политической жизни Борис Александрович не чувствовал себя призванным, и всецело стоял на платформе «наука аполитична». Университетские треволнения, нарушившие правильный ход занятий, раздражали его. И чего они, говорил он о волнующихся студентах и профессорах, сидели бы, да учились; книг что ли мало? Работы нет? В факультете, тем более в Совете Борис Александрович выступал очень редко, в исключительных случаях. И вообще всякого рода дела и вопросы, не касавшиеся ближайшим
(197/198)
образом его учёной специальности, его мало трогали и интересовали, скорее даже тяготили его.
Чрезвычайно скромный и воздержанный, обыкновенно молчаливый и сосредоточенный, Борис Александрович приходил в раздражение, когда ему приходилось слышать о чём-либо некрасивом, позорящим науку и всё, что с нею связано. 3ато, когда, бывало рассмешишь чем-нибудь Бориса Александровича, он заливался таким неудержимым смехом, каким, говорят, умеют смеяться только дети, да истинно хорошие люди.
И вот такой хороший человек взял да и умер, умер преждевременно, далеко не сказав последнего слова, не исчерпав отпущенных ему природою сил и дарований, умер с полным сознанием, что ему лучше умереть, чем продолжать жить: он ведь просил «отпустить» его на тот свет. Что это значит? Откуда это taediurn vitae? Говорили и будут говорить, что Борис Александрович умер от физического истощения, от недостатка питания – теперь это такая модная тема. Нет, не от физического истощения умер Борис Александрович – объяснять этим его смерть обидно было [бы] для него, жившего духовными интересами, обидно было бы для его близких. Борис Александрович умер от истощения, это – правда. Но какого? Морального. Мне, да и другим, он за последнее время неоднократно говорил, что дух его начинает угасать ранее, чем угасает тело. Для чего жить, сказал мне он раз, когда люди душу продали. И действительно, положение для такого человека, каким был Борис Александрович, сложилось тягостное, невыносимое, катастрофическое. Те два идеала, которым он служил всю свою жизнь, оказались попранными или, в лучшем случае, отошли на задний план в сознании большинства людей. Церковь признается только терпимой, а в своём внешнем обиходе испытывает явное умаление. Наука, та наука, которой служил Борис Александрович, признаётся роскошью – а для него она была хлебом насущным. Университет подвергается всякого рода экспериментам. А люди занимаются тем, что «приспосабливаются».
Не такая натура была у Бориса Александровича, чтобы он мог, чтобы он стал к чему-нибудь и к кому-нибудь «приспосабливаться». И разве мог он допустить, чтобы к чему-то стали «приспосабливать» даже науку. Борис Александрович готов был переносить, да и переносил ради своих идеалов какие угодно лишения, но «приспособлять» свои идеалы он не хотел, да и не умел. Наконец, ему, как человеку глубоко и сознательно любящему Родину, родное, было и душно и тошно в окружавшем его «интернационале». И вот он просил в предсмертный час «отпустить» его.
Когда мы, в годы нашего студенчества, занимались греческими надписями у Ф.Ф. Соколова, последний как-то раз назвал Бориса Александровича «агиос» – святым. Когда я смотрел на Бориса Александровича, лежащего в гробу, облачённого в белый стихарь, с венчиком на лбу, он напоминал мне русских святых, в том, по крайней мере, типе их, в каком их любит изображать на своих картинах и образах художник Hecтepoв. [11]
РА ИИМК РАН. Ф.2. ОП.2. Д.445. Л.1-27. Автограф.
[1] Болотов Василий Васильевич (1854-1900), историк церкви, профессор Петербургской духовной академии, член-корреспондент Петербургской АН (1893). См.: Тураев Б.А. В.В. Болотов /Некролог/ // Журнал министерства народного просвещения. 1900. №8. Отд. 4. С. 81-101; он же. Памяти В.В. Болотова // ЗВОРАО. 1900. Т. 13. С. 041-045.
[2] Вероятно, речь идёт о «Лекциях по истории древней церкви», выходивших после смерти В.В. Болотова под редакцией проф. А. Бриллиантова (СПб., 1907-1913. Т. 1-3).
[5] Тураев Б.А. История древнего Востока. Курс, читанный в Санкт-Петербургском университете.
СПб., 1911. Ч. 1-2. Изд. 2. СПб., 1913-1914. Указатель. Пг., 1915. Третье издание, готовившееся автором при жизни и сданное в печать в 1917 г., вышло не в полном виде: в 1924 г. был опубликован лишь первый том под редакцией и с примечаниями учеников Б.А. Тураева – В.В. Струве и Н.Д. Флиттнер. Наиболее известное четвёртое издание вышло в двух томах в 1936 г.
[6] Эрман (Erman) Адольф (1854-1937), немецкий египтолог, профессор Берлинского университета (с 1883 г.), директор Египетского музея в Берлине (с 1884 г.), член Прусской АН (1894).
[7] Фармаковский Борис Владимирович (1870-1928), археолог, историк античного искусства, член-корреспондент Петербургской АН (1914).
[8] Голенищев Владимир Семёнович (1856-1947), египтолог, ассиролог, семитолог, собравший громадную коллекцию египетских и переднеазиатских древностей (свыше 6 тысяч предметов). Благодаря Б.А. Тураеву, коллекция В.С. Голенищева была приобретена русским правительством, в апреле 1911 г. перевезена из Петербурга в Москву и стала достоянием Музея изящных искусств (ныне ГМИИ им А.С. Пушкина). С 1912 г. Б.А. Тураев заведовал этим собранием, издавая вместе с В.К. Мальмбергом «Памятники Музея изящных искусств в Москве» (М., 1912-1913. Вып. 1-4). и «Описание египетского собрания Музея изящных искусств» (М., 1917. Ч. 1-2).
[10] Бунзен Христиан Карл (1791-1860), немецкий востоковед и дипломат.
[11] Нестеров Михаил Васильевич (1862-1942), живописец, работавший над историческими и религиозными темами, один из авторов росписи Владимирского собора в Киеве (1890-1895), мозаик и икон церкви Спаса «на крови» в Петербурге (1894-1897) и др.
наверх
|