|
Кзылауз I | Капчигай III |
V-IV вв. до н.э. (по Акишеву, 1963) | III-II вв. до н.э. (по Кушаеву, 1963) |
1. Могильник вскрыт полностью — 19 курганов с 27 могилами. | Из 52 курганов вскрыто 40, опубликовано 30 курганов. |
2. Расположение цепочкой. | То же. |
3. Захоронения в грунтовой могиле. | 25 грунтовых и 5 подбойных могил. |
4. Каменное кольцо под насыпью. | Кольцо у основания или на насыпи. |
5. Могилы перекрыты деревом. | То же. |
6. 2/3 погребений одиночные, 1/3 — парные и коллективные. | Как правило, одиночные. |
7. Устойчивая ориентировка на запад. | На запад и северо-запад. |
8. Кости овцы. | То же. |
9. Один-два сосуда. | То же. |
10. Поделки из железа и бронзы в небольшом количестве. | То же. |
В целом в могилах усуньского времени больше железных изделий. Формы посуды отличаются от форм сакского периода, что и является основанием для разграничения.
Тесные генетические связи памятников усуньского и сакского времени отмечаются всеми исследователями. Большое сходство могильников этих периодов обусловило появление терминов «сако-усуньские памятники», «сако-усуньская культура» [12; 41, стр. 28]. На основании длительного сохранения одинаковых могильных сооружений, одних и тех же погребальных обрядов и генетического сходства инвентаря можно заключить, что захоронения в грунтовых могилах типичны для местного кочевого населения Семиречья, мало изменившегося в ходе вторжений извне.
Из сообщений письменных источников известно, что в ахеменидское время Семиречье было заселено сакскими племенами. Китайские хроники рубежа нашей эры отмечают, что наряду с усунями здесь обитали племена сэ (саков) и юечжей. Племена сэ принято считать потомками саков ахеменидского времени. Исходя из этого, можно предположить, что основная масса захоронений усуньского периода — захоронения в грунтовых могилах — принадлежит именно местным сакским племенам Семиречья, вошедшим в состав усуньского племенного союза.
Между тем в нашей литературе принято после исследования М.В. Воеводского и М.П. Грязнова считать грунтовые захоронения памятниками усуньских племён. Сейчас, после накопления большого нового материала, это отождествление вызывает сомнение, и настало время или привести дополнительные обоснования, или отказаться от него.
Обряд захоронения в грунтовых могилах был распространён среди местного кочевого населения Семиречья на протяжении длительного периода и был известен здесь задолго до появления усуней. У нас нет никаких данных предполагать обитание усуней на территории Семиречья ранее 60-х годов II в. до н.э. По сведениям письменных источников, усуни первоначально обитали между Дуньхуаном и Цилянь-шанем в Центральной Азии. Именно здесь указывается прародина усуней. Под ударами гуннов в 160 г. до н.э. усуни вслед за юечжами переселились в Семиречье. Там они подчинили местное сакское население, а также часть юечжийских племён, другая часть которых переселилась дальше — в Среднюю Азию.
Естественно предположить, что погребальный обряд и устройство могил среди усуньских племён должны отличаться в каких-то элементах от обряда местного, подчинённого ими населения. Из сказанного следует, что на территории Семиречья только те памятники могут быть признаны усуньскими, которые появляются на этой территории начиная со II-I вв. до н.э. и коренным образом или в существенных элементах отличаются от памятников местного населения.
После переселения в Семиречье за короткий срок численность усуней, по сообщениям источников, достигла 630 тыс., что могло произойти за счёт включения в их состав местных покоренных племён. В усуньском племенном союзе сами усуни были, очевидно, сравнительно немногочисленной господствующей прослойкой или частью общества. Основную массу населения Семиречья в это время, очевидно, по-прежнему составляли местные сакские племена. Численное соотношение местного и пришлого населения, очевидно, должно было бы отразиться и в исследованных погребальных памятниках.
Следовательно, анализ памятников и конкретные исторические
факты позволяют признать правильным отождествление наиболее массовых захоронений с местным сакским населением, а не с усунями — пришлыми племенами, вторгшимися на территорию Семиречья во II в. до н.э.
Рассмотрим вторую синхронную группу — памятники кенкольского типа с подбойными и катакомбными захоронениями. Ареал их включает обширные пространства юго-восточной половины Средней Азии — от Или на северо-востоке до Южной Туркмении и Южного Таджикистана. Памятники этой группы выявлены в настоящее время примерно в 140 пунктах в Семиречье, Фергане, Ташкентском и Бухарском оазисах, в долине Зеравшана, Южной Туркмении и Южном Таджикистане, а общее количество изученных курганов достигает более 1500 [4; 7; 8; 17; 23; 24; 27-29; 31; 32; 34-38; 43].
Вопрос о катакомбных и подбойных захоронениях Семиречья неразрывно связан с более общей и важной проблемой катакомбно-подбойных памятников Средней Азии, Южного Приуралья и Нижнего Поволжья, их роли в истории эпохи «великого переселения народов». И вполне понятно, что при рассмотрении этой группы часто приходится выходить за пределы Семиречья.
Катакомбные могилы известны в Средней Азии на территории Северной Бактрии уже в могильниках эпохи поздней бронзы (IX-VIII вв. до н.э.) [33, стр. 94]. Но они не имеют прямой связи с рассматриваемыми памятниками. Наиболее ранние подбойные сооружения обнаружены за пределами Средней Азии — в Северном и Северо-Восточном Казахстане и датируются V-IV вв. до н.э. [3; 26]. В Средней Азии подобные ранние могилы до сих пор не обнаружены. Между ними и захоронениями II-I вв. до н.э. существует хронологический и территориальный разрыв.
Археологические данные позволяют говорить о том, что подбойные и катакомбные захоронения появляются в большом количестве в долине р. Или и в других районах впервые во II-I вв. до н.э. Основная масса их датируется первыми веками нашей эры. Верхняя грань существования памятников доходит до V в. н.э. В течение длительного периода, со II в. н.э. и до V в. н.э., они сосуществуют с чильпекской группой. К тому же в Семиречье могилы этих основных типов встречаются на одной и той же территории и часто в одних и тех же могильниках. В долинах Или и Чарына из 34 в 13 могильниках в небольшом количестве представлены и подбойные захоронения (количественно же преобладают грунтовые могилы).
Наиболее многочисленны здесь захоронения в грунтовых ямах, которые составляют 76,7% всех изученных в долине Или курганов, а подбойные — 19%. Из 370 курганов усуньского времени, учтённых Г.В. Кушаевым, 80% содержали грунтовые могилы и 17% — подбойные [25, стр. 249, 250].
В других районах соотношение количества памятников этих основных типов варьируется. Так, в долине Таласа известно 115 грунтовых и 73 катакомбных и подбойных могил, что составляет примерно 60 и 40% [23, стр. 59]. Приблизительно такое же соотношение на Тянь-Шане, где, по материалам А. Кибирова, известно более 100 грунтовых и около 50 синхронных им подбойных и катакомбных могил [21].
В могильниках с господствующим обрядом подбойных и катакомбных захоронений часто в небольшом количестве встречаются грунтовые могилы, например: в известном Кенкольском могильнике в долине Таласа [10], Карабулак в Южной Фергане [7], Тулхар в Южном Таджикистане [31].
Катакомбные и подбойные памятники, по имеющимся сейчас данным, генетически не связаны с могильниками предшествующего сакского периода на территории Средней Азии. Вопрос о происхождении катакомбно-подбойных захоронений, о том, откуда они появились в Средней Азии, остаётся открытым.
Рассматриваемая группа резко отличается от захоронений в грунтовых ямах не только своеобразием устройства могилы и инвентаря, но также рядом деталей в ритуале и по материальной культуре. Это наглядно видно из сравнения катакомбного могильника Кенкол в Таласе [10, 23] с синхронными памятниками правобережья Или [6] и той же долины Таласа.
Кенкол — II-IV вв. н.э. (Талас) | Правобережье Или II — III вв. н.э. |
(по Бернштаму — Кожомбердиеву) | (по Кушаеву) |
1. Около 100 земляных курганов, вскрыто — 48: | Раскопано в 7 могильниках 44 кургана с 47 могилами: |
2. Расположение бессистемное. | То же, частично цепочкой. |
3. Изредка каменные выкладки под насыпью. | То же. |
4. Ориентация погребенных разная (С, Ю, СВ, ЮВ и др.) | Устойчивая ориентировка на запад. |
5. Одиночные и коллективные захоронения. | Как правило, одиночные. |
6. Положение покойника на деревянном ложе, в гроб или на каменных плитах на полу. | Умершие положены непосредственно на дно могилы. |
7. Ритуальная пища — мясо барана. | То же. |
8. Мужские захоронения с оружием. | Оружие отсутствует. |
9. Женские — с разнообразным набором украшений. | Общая бедность инвентаря. |
10. В могилах встречаются привозные вещи. | Как правило, отсутствуют привозные вещи. |
Различаются также формы глиняной посуды.
Керамика из катакомб и подбоев, как правило, плоскодонная. Часто встречаются сосуды с прорезным орнаментом. Своеобразны формы кувшинов, вьючных фляг, курильниц, резко oтличающиеся от набора сосудов в грунтовых захоронениях. Значительно больше керамики, изготовленной на гончарном круге. Только в катакомбах и подбоях обнаружены деревянные столики и деревянная посуда.
Катакомбно-подбойные захоронения отличаются от грунтовых также распространением обычая прижизненной деформации головы, который является важным этническим признаком. У большинства погребённых в Кенколе отмечена искусственная деформация черепа [16]. Подобное явление выявлено в курганах Тянь-Шаня [14], Ташкентского оазиса [18], Ферганы и Алая [15] и в могильнике Аруктау и других в Южном Таджикистане [22]. Широкое распространение этого обычая среди населения, хоронившего в катакомбах и подбоях, можно считать показателем стремления представителей этой этнической группы как-то выделить себя. В грунтовых могилах подобный обычай не засвидетельствован. Наблюдается и определённое различие в расовом типе погребённых в этих двух группах. По составу антропологических типов катакомбно-подбойные захоронения мало отличались от памятников первой группы. Основное различие между ними заключается в количественном преобладании в катакомбах и подбоях монголоидного компонента, людей монголоидного и смешанного европеоидного с при-
месью монголоидных черт типа, так называемого кенкольского типа. Этот метисированный тип встречен в ряде могильников. Он сложился в области длительного контакта европеоидной и монголоидной рас, вероятнее всего, в Центральной Азии и Восточном Туркестане. Всё это говорит о значительно большем участии пришлого населения с востока в формировании этнического облика племён с катакомбными и подбойными захоронениями.
Таким образом, на территории Семиречья в усуньский период II в. до н.э. — V в. н.э. выделяются две основные этнические группы, одну из которых составляло местное сакское население, а вторую -пришлые племена. Относительно этнической принадлежности погребённых в катакомбах и подбоях высказаны разные и противоречивые суждения. Также не существует единого мнения о происхождении их.
Имеющиеся в нашем распоряжении данные позволяют предполагать, что обряд захоронения в катакомбах и подбоях привнесён в Среднюю Азию извне. Появление нового погребального обряда возможно в двух случаях: при изменении религиозных верований или при появлении нового населения. Для усуньского периода смена или изменение религиозных представлений не отмечена по археологическим данным и сведениям письменных источников. Поэтому имеются основания связать появление нового погребального обряда, а также усиление монголоидных элементов в расовом типе с вторжением пришлого населения. Необходимо учитывать широкое распространение катакомбных н подбойных памятников на территории Средней Азии и за её пределами — в Нижнем Поволжье и Восточном Туркестане. Эти памятники широко распространяются почти одновременно в разных частях указанной территории в последних веках до нашей эры (ранние подбои V-IV вв. до н.э. известны только в Поволжье и в Северном Казахстане). Маловероятно, чтобы у разных племён и народов независимо и почти одновременно могла появиться и бытовать одинаковая форма погребального сооружения и сходный ритуал погребения.
Можно предполагать, что катакомбные и подбойные захоронения в Средней Азии появились в результате переселения чужеземных племён. Затем в течение 600-700 лет пришлые племена жили одновременно с местным населением.
Сопоставление археологических данных о распространении и времени появления катакомбных и подбойных захоронений с сообщениями письменных источников о вторжении в Семиречье юечжей и усуней приводит нас к предположению о связи этих памятников с усуньскими и юечжийскими племенами. С этими народами можно сопоставить только такие памятники, которые распространены в Семиречье, но встречаются также и на территории Средней Азии. Дело в том, что, по сведениям источников, эти племена наряду с другими участвовали в борьбе с Греко-Бактрией и в создании Кушанского государства. Этому условию и отвечает отождествление катакомбных и подбойных памятников с юечжами и усунями. Распространение указанных памятников на территории Средней Азии можно рассматривать как отражение происходивших в этот период передвижений кочевых народов. Дополнительным подтверждением может служить распространение обычая искусственной деформации головы среди кушан [юечжей], засвидетельствованное изображениями на кушанских монетах [42, стр. 179 и сл.].
Проблема сопоставления осложняется тем, что повествующие о падении Греко-Бактрии античные источники упоминают только о племенах, вторгшихся из-за Яксарта (Сырдарьи), в то время как по ки-
тайским хроникам племена, принимавшие участие в этом событии, появились из Центральной Азии. Попытки примирить противоречивые сведения источников привели к созданию концепции о вторжении с двух сторон: с севера и с востока.
При решении вопроса об этнической принадлежности следует учитывать, что в это же время катакомбные и подбойные могилы встречаются среди сарматских племён. Сарматские захоронения, несмотря на общее сходство со среднеазиатскими, по ряду признаков отличаются от них. Возможно, что часть рассматриваемых памятников Средней Азии, как, например, могильники Бухарского оазиса и Южной Туркмении, больше связаны с сарматами. Не исключено, что в дальнейшем удастся выделить среди среднеазиатских захоронений группы разного происхождения — одну, связанную с востоком (юечжами и усунями), и другую — с севером (сарматами).
Известное единообразие и общность культуры кочевников Средней Азии и сарматских племен были обусловлены особенностями кочевого хозяйства, культуры и быта, их тесными взаимосвязями, а также происхождением от родственных сако-массагетских и савроматских племён. Все они относились к группе ираноязычных племён.
Предполагаемое сопоставление захоронений Семиречья с усунями и юечжами является гипотезой, требующей дальнейшего обоснования и доказательств. Окончательное решение проблемы возможно лишь при появлении данных о погребальных памятниках на прародине усуней и юечжей в Центральной Азии, относящихся к периоду, предшествующему их появлению в Семиречье.
В Центральной Азии, в районе оз. Лобнор, исследованы могильники с катакомбами и подбойными захоронениями [44], имеющими сходство с семиреченскими. Погребальный инвентарь беден. Наряду с местными формами посуды здесь найдены кубковидные кружки с прямыми стенками н петлевидной ручкой. Эта форма сходна с подобными сосудами из сако-усуньского могильника Кзылауз I. Другая форма, шаровидная кружка с петлевидной ручкой, также имеет аналогии в Кзылаузе и в грунтовых могилах Или усуньского времени. Кроме того, имеются большие сосуды с волнистым прорезным орнаментом, близкие сосудам Кенкола. Сопоставление лобнорских и семиреченских памятников позволяет говорить об их одновременности, o том, что в рассматриваемое время в Восточном Туркестане были распространены сходные со среднеазиатскими типы захоронения.
Установление тесных связей и соперничество между юечжами и усунями восходит ещё к периоду обитания их в Центральной Азии. В результате соседства уже в то время могла появиться некоторая общность в культуре этих племён. На древних землях усуней и юечжей, в могильниках оз. Лобнор обнаружены одновременные подбойные и катакомбные захоронения. Сосуществование этих двух типов захоронений отмечено и в ряде районов Средней Азии — долине Таласа, на Тянь-Шане, в Фергане и Бухарском оазисе. В настоящее время у нас нет оснований для дифференциации катакомбных и подбойных памятников и отождествления их с тем или иным племенем. Можно надеяться, что дальнейшее исследование, статистическая обработка материала и картографирование позволят уточнить сопоставление, связав каждый из вариантов захоронений с определённым этническим объединением.
Литература
- Абетеков А.К., Археологические памятники кочевых племён в западной части Чуйской долины, — в кн. «Древняя и раннесредневековая культура Киргизстана», Фрунзе, 1967.
- Агеева Е.И., К вопросу о типах древних погребений Алма-Атинской области, — ТИИАЭАН КазССР, 1961, т. 12.
- Агеева Е.И. и Максимова А.Г., Отчёт Павлодарской экспедиции 1955 г., — ТИИАЭАН КазССР, 1959, т. 7.
- Агзамходжаев Т., Раскопки погребальных курганов близ станции Вревская, — ИМКУ, 1961, вып. 2.
- Акишев К.А., Культура саков долины реки Или (VII-IV вв. до н.э.), — в кн. К.А. Акишев и Г.В. Кушаев, Древняя культура саков и усуней долины р. Или, Алма-Ата, 1963.
- Акишев К.А., Отчёт о работе Илийской археологической экспедиции 1954 г., — ТИИАЭАН КазССР, 1956, т. 1.
- Баруздин Ю.Д., Карабулакский могильник, — ИАН КиргССР, СОН, 1961, т. 3, вып. 3.
- Баруздин Ю.Д. и Брыкина Г.А., Археологические памятники Баткена и Ляйляка (Юго-Западная Киргизия), Фрунзе, 1962.
- Бернштам А.Н., Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Шаня и Памиро-Алтая, М.-Л., 1952 (МИА, № 26).
- Бернштам А.Н., Кенкольский могильник, Л., 1940.
- Бернштам А.Н., Основные этапы истории культуры Семиречья и Тянь-Шаня, — СА, 1949, т. II.
- Бернштам А.Н., Сако-усуньская культура ранних кочевников Чуйской долины, — в кн. «Чуйская долина», М.-Л., 1950 (МИА, № 14).
- Воеводский М.В. и Грязнов М.П., У-суньские могильники на территории Киргизской ССР. К истории Усуней, — ВДИ, 1938, № 3.
- Гинзбург В.В., Древнее население Центрального Тянь-Шаня и Алтая по антропологическим данным (1 тыс. до н.э. — 1 тыс. н.э.), — ТИЭ, 1954, т. 21.
- Гинзбург В.В., Материалы к антропологии древнего населения Южной Киргизии (вторая половина 1 тыс. до н.э. — первая половина 1 тыс. н.э.), — ИАН КиргССР, СОН, 1960, т. 2, вып. 3.
- Гинзбург В.В. и Жиров Е.В., Антропологические материалы из Кенкольского катакомбного могильника в долине р. Талас КиргССР, — СМАЭ, 1949, т. 10.
- Заднепровский Ю.А., Археологические памятники южных районов Ошской области, Фрунзе, 1960, стр. 116 [указаны основные публикации до 1960 г.]
- Зезенкова В.Я., Некоторые данные о скелетах из погребальных курганов возле станции Вревская, — ТМИУ, 1951, вып. 1.
- Исмагулов О., Антропологическая характеристика усуней Семиречья, — ТИИАЭАН КазССР, 1962, т. 16.
- Кадырбаев М.К., Памятники ранних кочевников Центрального Казахстана, — ТИИАЭАН КазССР, 1959, т. 7.
- Кибиров А., Археологические работы в Центральном Тянь-Шане, — ТКирАЭЭ, 1959, т. 2.
- Кияткина Т.П., Черепа из могильника Арук-Тау (Таджикистан), — ТИЭАН СССР, 1961, т. 71.
- Кожомбердиев И., Катакомбные памятники Таласской долины, — в кн. «Археологические памятники Таласской долины», Фрунзе, 1963.
- Крашенинникова Н.И., К вопросу об изучении древних могильников Ташкентского оазиса, — ТТашГУ, 1966, вып. 295.
- Кушаев Г.В., Культура усуней правобережья р. Или (III в. до н.э. — III в. н.э.), — в кн. К.А. Акишев и Г.В. Кушаев, Древняя культура саков и усуней долины р. Или, Алма-Ата, 1963.
- Кушаев Г.В., Ранние погребения Алакульской впадины, — в кн. «Новое в археологии Казахстана», Алма-Ата, 1968.
- Латынин Б.А., Некоторые итоги Ферганской экспедиции 1934 г., — «Археологический сборник Гос. Эрмитажа», 1961, вып. 3.
- Литвинский Б.А., Исследование могильника Исфаринокого района в 1958 г., — ТИИАН ТаджССР, 1961, т. 27.
- Лоховиц В.А., Новые данные о подбойных погребениях в Туркмении, — в кн. «История, археология и этнография Средней Азии», М., 1968.
- Максимова А.Г., Усуньские курганы левобережья р. Или, — ИАН КазССР. Серия ист., археол. и этногр., 1959, вып. 1.
- Мандельштам А.М., Кочевники на пути в Индию, Л., 1966 (МИА, № 136).
- Мандельштам А.М., Некоторые данные о памятниках кочевого населения Южного Туркменистана в античную эпоху, — ИАН ТуркмССР, 1963, № 2.
(35/36) - Мандельштам А.М., Памятники эпохи бронзы в Южном Таджикистане, Л., 1968 (МИА № 145).
- Обельченко О.В., Могильник Акджар-Тепе, — ИМКУ, 1962, вып. 3.
- Обельченко О.В., Курганы около селения Хазара, — ИМКУ, 1963, вып. 4.
- Обельченко О.В., Сазаганские курганы, — ИМКУ, 1965, вып. 6.
- Обельченко О.В., Погребение сарматского типа под Самаркандом, — СА, 1967, № 2.
- Сорокин С.С., Боркорбазский могильник, — ТГЭ, 1961, т. 5.
- Тереножкин А.И., [рец. на ст.:] М.В. Воеводский и М.П. Грязнов, У-суньские могильники..., — ИУзФАН СССР, 1941, № 2.
- Толстов С.П., Работы Хорезмской археолого-этнографической экспедиции АН СССР в 1949-1953 гг., — ТХЭ, 1958, т. 2.
- Толстов С.П., Среднеазиатские скифы в свете новейших археологических открытий, — ВДИ, 1963, № 2.
- Трофимова Т.А., Изображение эфталитских правителей на монетах и обычай искусственной деформации черепа у населения Средней Азии в древности, — в кн. «История, археология и этнография Средней Азии», М., 1968.
- Тургунов Б.А., Айртамскин могильник,— ОНУ, 1968, № 8.
- Хуан Вэнь-би, Гаочанская керамика, Пекин, 1931 [на кит. яз.].
- Черников С.С., Отчёт о работах Восточно-Казахстанской экспедиции 1948 г., — МАИ КазССР. Серия археол., 1951, вып. 3.
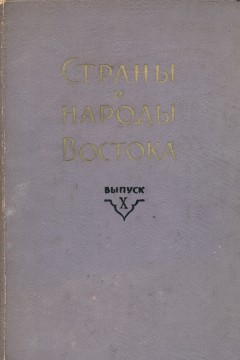 Ю.А. Заднепровский
Ю.А. Заднепровский