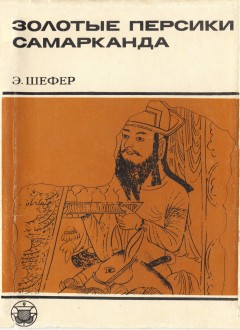 Э. Шефер Э. Шефер
Золотые персики Самарканда.
Книга о чужеземных диковинах в империи Тан.
Глава II. Люди.
Товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных и жемчуга, и виссона и порфиры, и шёлка и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди и железа и мрамора, корицы и фимиама, и мира и ладана, и вина и елея, и муки и пшеницы, и скота и овец, и коней и колесниц, и тел и душ человеческих.
Откровение Иоанна Богослова, 18, 12, 13.
Военнопленные. ^
Среди товаров, ввозившихся в Китай в средние века, заметное место занимали человеческие существа. Из чужеземных стран, хорошо знакомых или совершенно неведомых китайцам, доставляли во множестве мужчин, женщин и детей, предназначая им не то место в жизни, для которого они были рождены, а горькую долю под танскими небесами, доставшуюся им по воле злого рока или по прихоти властелина.
На протяжении VII в., когда китайские рати завоевателей сметали повсюду пред собой варварские полчища, среди мужчин, оказавшихся в Китае на подневольном положении, было особенно много военнопленных. Из них наибольшую группу составляли тюрки, тысячами попадавшие в плен в степях Монголии и пустынях Сериндии. Обитатели Маньчжурии и Кореи также попадали в руки китайцев, отправлявших их гнуть спину на Сына Неба и его фаворитов. Даже гражданское население могла ожидать такая участь. В 645 г., во время похода Китая против царства Когурё, четырнадцать тысяч жителей города Ляодуна были взяты в плен, так как они посмели оказать сопротивление войскам императора. Они были осуждены на рабство, но позже благодаря необычайному милосердию Тай-цзуна [1] помилованы. Однако тысячи других пленников, менее счастливых, отправляли в столицу, чтобы победоносный полководец, продемонстрировав их горожанам в триумфальном шествии, мог преподнести их Сыну Неба и его божественным предкам в Великом Храме (Таймяо).
В таких случаях победитель в одеждах всадника-кочевника выстраивал свои войска в полном снаряжении за Восточными
(64/65)
воротами столицы, куда блестящая дворцовая стража шествовала для его встречи. По знаку церемониймейстера процессия трогалась. Впереди выступали два верховых военных оркестра, играя на свирелях, флейтах, гобоях, кларнетах, [2] барабанах и колоколах, и хор, который исполнял четыре триумфальные оды, предназначавшиеся для таких торжественных случаев. Гимн «Радость приношения поздравлений при императорском выходе» [3] звучал так:
Четыре моря осчастливил
величественный ветер;
Тысячелетье в чистоте
пребудет добродетель.
Мы варварских одежд отныне
не станем надевать, [4]
Сегодня возблагодарим
за милости за эти.
В одной, во всяком случае, из таких программ предусматривалась и хореографическая часть: торжественное исполнение триумфальной оды и танец «Сокрушение боевого строя» в ознаменование побед Тай-цзуна были представлены ста двадцатью восемью юношами в серебряных доспехах в 632 г. [5]
Вслед за оркестрами и хором шли наиболее отличившиеся отряды, а за ними, к восторгу затаивших дыхание жителей столицы, вереница живых трофеев — пленников. Они шествовали по городу к дворцу, пока не достигали ворот Великого Храма, где музыканты спешивались, а толпа ожидала у святилища, пока император [в храме] совершал священный обряд жертвоприношения и благодарения теням усопших властителей. Затем снова ударяли оркестры, и генерал-победитель со своими военачальниками направлялся к башне, где их ожидал Сын Неба. Здесь по протоколу их встречали пением триумфальных од. Наконец вводили скопище злосчастных пленников — наглядный пример непокорности, ожесточённости и варварской неотёсанности, чтобы огласить, какая участь для них уготована. [6] Когда этих несчастных спроваживали с высочайших глаз, старшие офицеры преданного войска награждались в соответствии с их заслугами и могли рассчитывать, что примут участие в большом праздничном пиршестве. [7]
После смерти великого завоевателя Тай-цзуна его преемник Гао-цзун во время празднования по поводу пленения вождя (ябгу) западных тюрок Ашина Хэлу ввёл в триумфальный ритуал новую процедуру. Царственного пленника сперва приносили в жертву духу Тай-цзуна в Лучезарной Гробнице [8] — усыпальнице этого императора в северо-западной части города. Затем в присутствии двора и предводителей зависимых народов
(65/66)
совершалась традиционная церемония в Великом Храме. [9] Это бесспорное нововведение, видимо, отчасти рассматривалось как возрождение очень древнего обычая — заклания побеждённого царя в качестве жертвы манам усопших владык. Однако в том конкретном случае, когда эта церемония, ставшая в последующие годы традиционной, [10] проводилась впервые, Хэлу был великодушно избавлен от смерти.
Принесение в жертву знатного пленника у могилы державного предка находило обоснование не только в религиозных мотивах, но и в соображениях политического характера. Любой иноземный вождь считался — в силу естественного порядка вещей — вассалом китайского монарха. Выступая войной против императора, он тем самым поднимал мятеж против своего законного повелителя и заслуживал наказания смертью. Именно в этом состояло преступление, и такова была кара для владетеля Ташкента, [11] пленённого в 750 г. корейским генералом на китайской службе Гао Сянь-чжи. [12] Но такой мрачный конец ожидал далеко не всех знатных особ, попадавших в плен к китайским полководцам. Более типичен случай с Туманом, вождём западных тюрок, который в 660 г. был захвачен великим полководцем Су Дин-фаном и привезен в Восточную столицу, где китайский военачальник сам успешно ходатайствовал за сохранение жизни Туману. [13] На долю знатных пленников иногда выпадали особые милости, как это было с царём Кучи, доставленным в столицу в 649 г. После символического принесения в жертву духам умерших императоров он был освобождён и пожалован титулом «великого войскового начальника военных стражей левого крыла». [14]
Некоторым царственным пленникам назначались даже посмертные почести, впрочем довольно сомнительные, поскольку их слава при этом мало чем отличалась от славы какого-нибудь знаменитого боевого коня, молва о котором служила украшением истории царственного монарха, которому этот конь принадлежал. В качестве примера приведём такой эпизод. Честолюбивый и деятельный посланец Китая в Индии Ван Сюань-цэ в отместку за оскорбление, нанесённое танской державе, выставив на посмешище войска тибетцев и непальцев, разграбил цветущий город Магадху и угнал наряду с несметным количеством лошадей и скота две тысячи пленников обоего пола. Среди них оказался «самозваный» царь Магадхи, отправленный в Китай в 648 г. Два года спустя, после смерти Тай-цзуна, эмиссаром которого был Сюань-цэ, изваянное из камня изображение несговорчивого индийца было установлено перед Лучезарной Гробницей почившего императора. [15] Так этот правитель Магадхи удостоился вечной славы, но уже в качестве чисто символической фигуры и свидетельства военных успехов Тай-цзуна.
(66/67)
Простых пленных обычно ожидали рабство или смерть. [16] Стихотворение Бо Цзюй-и «Пленник», написанное в 809 г., рассказывает о такой участи:
Связанных жунов отряды!
Связанных жунов отряды!
Проткнуты уши, разодраны лица,
в Цинь их пригнали как стадо.
Милость к несчастным Сын Неба явил,
не соизволил казнить,
Он повелел их на юго-востоке
в У и Юэ поселить.
В жёлтое платье одетый чиновник
их имена записал... [17]
Какая-то часть военнопленных распределялась в качестве личных рабов среди высших военных и гражданских чиновников империи, но большинство из них становилось казёнными рабами, приписывавшимися по определению государственных властей к той или иной службе. [18] При некоторых обстоятельствах (например, когда пленные были китайцами, захваченными во время междоусобных войн) они могли быть освобождены специальным постановлением об амнистии. Такая свобода иногда предоставлялась на определённых условиях: не при династии Тан, а несколько ранее, в 545 г., было освобождено от оков множество военнопленных, затем справедливо распределённых среди вдов страны. [19] Но обычные пленники-варвары не могли рассчитывать на такой счастливый исход.
Назначение на работы такого злосчастного пленника, находился ли он в подневольном положении у государства или у частного лица, могло определяться его этнической принадлежностью. Кочевники из Монголии или Центральной Азии часто использовались как табунщики, конюхи или ездовые при экипажах знати. Ум и образование могли выдвинуть казённого раба на видное место в текстильном, например, или в керамическом производстве или даже возвысить до ответственного положения в императорском дворце [20] — стража, [21] переводчика или танцора. Самое худшее, что могло ожидать обращённого в рабство пленника,— отправка к южным границам Китая, на работы среди болотных испарений, туземных охотников за головами и крокодилов, как это случилось с тюрками, описанными в стихотворении Бо Цзюй-и, или с тибетцами и уйгурами, отправленными в район Гуанчжоу в 851 г. [22] Китайские власти IX в., чрезмерно опасаясь проникновения в страну шпионов, считали эти гибельные южные окраины наиболее подходящим местом для использования пленных — уроженцев горных и северных местностей. В VII в., когда существовала твёрдая уверенность в авторитете и могуществе Китая, было легче проявлять велико-
(67/68)
душие. Тем не менее при удачном стечении обстоятельств раб-иноземец, находившийся в зависимости от частного лица или от государства, мог надеяться с помощью талантов или интриг достичь богатства и власти. Так, некоторые домашние рабы, одарённые в военном деле, стали важными особами при дворе. К их числу относится, например, Ван Мао-чжун, сын корейского мятежника, достигший головокружительных высот власти, но павший из-за собственного чрезмерного честолюбия. [23]
Военнопленные, если им не повезло быть приписанными к домам знатных и высокопоставленных владельцев, обычно становились обезличенными рабами. В такое рабство попадали также — по принципу коллективной ответственности — семьи тех, кто был осуждён за государственную измену. И военнопленные, и родственники изменников были обречены таскать камни для стен, ограждавших страну, или для дамб, защищавших поля, и получить свободу они могли только по специальному указу или по общей амнистии. [24]
Рабы. ^
Рабы-китайцы будут хранить
сокровищницы и закрома;
Рабы-чужеземцы будут пасти
стада коров и овец.
Рабы-скороходы будут бежать
у стремян моего седла;
Рабы-силачи будут землю пахать,
не жалея сил для меня.
Рабы-красавцы — на лютнях играть
и мне подносить вино;
Рабы с тонким станом будут для меня
петь песни и танцевать;
А карлики будут свечи держать
у обеденного стола.
Так описываются в одной дуньхуанской рукописи мечты юного новобрачного, жаждущего власти и роскоши богатого главы дома. [25]
По-видимому, большинство домашних рабов, использовавшихся в качестве слуг — от служанки при госпоже и до егеря, поставлялись торговцами. [26] В позднетанское время приобрёл значение и ещё один новый источник получения рабов: безнадежные должники и арендаторы продавали помещикам или иным кредиторам себя или своих детей на определённый срок, иногда даже до конца жизни. [27] Но наиболее распространённым рабом во времена Тан оставался иноземец, деньги за которого шли в карман продающего. Пуритански настроенный поэт Юань Чжэнь, постоянно проявлявший интерес ко всему экзо-
(68/69)
тическому, описал в большом стихотворении одного такого торговца людьми. Он нарисовал образ барышника, ненасытную душу которого снедает жажда наживы; гонимый по свету алчностью, он готов продавать всё — любое существо и любую вещь,— лишь бы это приносило ему выгоду:
...В поисках жемчуга
в синее море плывёт,
Собранный жемчуг
в Цзин или в Хэн доставляет.
Север продаст
добрых дансянских коней,
Запад поймает
туфаньских ему попугаев.
В Огненных Землях
холст есть, омытый огнём,
В области Шу
ткётся парча дорогая.
Рабыня из Юэ —
гладкая влажная плоть;
Мальчик из Си —
глаза под бровями сверкают. [28]
Осмотрительный работорговец избегал обращать в «товар» соотечественников. Древний обычай, подкреплённый законом, делал такую торговлю рискованным делом. Если продавали в рабство похищенного у родителей ребёнка, то преступивший закон торговец подлежал наказанию за причинённые ему страдания. Правда, глава китайского семейства, если к этому его вынуждала необходимость, мог продать женщину или ребёнка из своего дома, потому что его воля была для домочадцев законом. [29] А торговля невольниками-иноземцами была совершенно безопасным занятием, нисколько не отягощавшим совести, поскольку их вовсе не считали людьми в полном смысле этого слова. [30] Продавать можно было любых чужеземцев, из какого бы народа они ни происходили, потому что не существовало китайских законов, предусматривавших их освобождение от неволи. Живым товаром для таких торговцев могли быть персы, вместе с другой добычей захваченные пиратами Фэн Жо-фана и содержавшиеся в невольничьих поселках близ Ваньаня на острове Хайнань. [31] Это могли быть и тюрки — не военнопленные, а живой товар, который из Трансоксианы вывозили на продажу Саманиды, [32] а то и мирный табунщик или его дети, выкраденные и переправленные через китайскую границу,— практика, не допускавшаяся в годы расцвета династии, когда танская держава жила в мире с беспокойными кочевниками. [33] Не исключено, что даже какие-то рабы-славяне, вывозившиеся из Хорезма, попадали на Дальний Восток. [34] Такими рабами могли быть и уроженцы Кореи, в особенности кореянки — де-
(69/70)
вушки из государств Когурё а Силла, — они пользовались большим спросом и обычно их держали как служанок, наложниц и музыкантш в богатых домах. [35] Эта торговля корейскими девушками велась шайкой пиратов, орудовавшей в водах Жёлтого моря, и вызывала протесты со стороны правительств Корейского полуострова. В 692 г. китайский правитель области Шаньдун, где невольников высаживали на побережье, испрашивал разрешения пресекать подобные действия, преступные по отношению к дружественному государству Силла, и таковой приказ последовал. [36] Это не могло не вызвать вздохов огорчения в определённых кругах. Красота корейских девушек славилась, хотя и встречала иногда осуждение у людей косных. Приведём такой пример. В 646 г. государство Когурё направило к императору Тай-цзуну миссию, чтобы принести благодарность за то, что он пощадил жителей одного из городов в Ляодуне, подвергшегося осаде в предшествующем году. В качестве благодарственного подношения послы доставили двух прекрасных кореянок. Однако властитель, обращаясь к этим женщинам, сказал такие слова: «Возвращайтесь и скажите вашему господину, что, хотя красота и привлекательная наружность высоко ценятся мужчинами, а его подарки действительно изумительны и прекрасны, я жалею их, разлучённых с отцом, матерью, старшими и младшими братьями в их родной стране. Удерживать их особы [здесь], забыв об их семьях, любить их прелести, в то время как в их сердцах скорбь, я не могу». И с этим он отправил их домой. [37]
Но самым крупным источником чужеземных невольников являлись племена юга — таи и другие туземцы, оказавшиеся среди недавно захваченных китайских владений в Фуцзяни, Гуандуне, Гуанси и Гуйчжоу. Торговцы невольниками безжалостно охотились на этих несчастных «варваров», пока двор, издавая указ за указом, порицал это зло и запрещал — явно без особого успеха — ловлю туземцев. [38] Весьма характерно повеление Дэ-цзуна, относящееся к концу VIII в., в котором указывается по поводу юных рабов, присылавшихся до этого в качестве обычной ежегодной дани ко двору из отдалённого города Юнфу, поблизости от современной вьетнамской границы, что «служить причиной их разлучения с деревнями их матерей и отцов, разрушать любовь к их плоти и крови поистине бесчеловечно. Пусть это прекратится!». [39] Это повеление могло положить конец только обращению туземцев в неволю под эгидой властей, а частные операции с невольниками продолжались. В середине IX в. Сюань-цзун [II] в указе, направленном против всякой торговли рабами на далёком юге, заявляет, что до него дошло, что эти простодушные туземцы не лучше дикарей, «которые доныне обрабатывают землю огнём и разрыхляют
(70/71)
её водой, пребывая в нужде днём и в голоде ночью», что они задавлены налогами и вынуждены продавать своих сыновей и дочерей. Поэтому они становятся добычей злодеев, и в результате, говорится в императорском постановлении, «мужчины и женщины превращаются в товары и богатства наряду с рогом и слоновой костью». [40] Есть указания на то, что торговцы более всего стремились получить от южных туземцев, как и от корейцев, юных девушек-невольниц. Поэтому незаурядный правитель Гуанчжоу Кун Куй, занявший должность в 817 г., одним из первых своих постановлений запретил продажу женщин, взятых из туземных селений. [41] Поэт того времени Чжан Цзи так описывает одну из них:
В стране, где в травах весенних яд,
что Медных Столбов южней,
Куда путешественник к Брегу Златому
доедет за несколько дней,
Там кольца из яшмы продевшая в уши
девица из чьей-то семьи,
Сжимая в объятиях лютню-пипá,
приветствует бога морей. [42]
Другим значительным источником рабов для танского Китая были области Индии, лежащие за Гангом. Ввозившиеся из «Индий» рабы назывались «невольниками курунг», т.е. невольники из стран Курунг Бнам [43] (Царей Горы), с использованием древнекамбоджийского названия, соответствующего санскритскому Шайлараджа и символизирующего господство Кхмера над священной космической горой, как и у царей Шайлендра на Яве и Суматре. [44] К югу от Тямпы, говорится в «Истории династии Тан», «все имеют курчавые волосы и чёрное тело, и все совокупно называются курунг». [45] Мы можем обозначить этих невольников как «малайцев» в самом широком понимании этого слова. Среди них, если судить по упоминанию «курчавых волос», встречался веддоидный тип, а также кхмеры и другие пароды, имеющие вьющиеся волосы, и, возможно, даже дравидийские и иные племена бассейна Индийского океана. Они более всего славились своими талантами как пловцы, так как умели нырять под воду с открытыми глазами и доставать со дна брошенные туда предметы. Многие из них были искусными ловцами жемчуга.
Хуэй-линь, видный буддийский лексикограф VIII — начала IX в., приводит такие сведения о людях Куньлуня:
«Их также называют курунг. Это варварские племена больших и малых островов на Южных морях. Они очень чёрные, а выставляют на обозрение свои обнажённые тела. Они умеют охотиться и укрощать диких животных: носорогов, слонов и тому подобных. Среди них есть много племён и разновидностей;
(71/72)
таковы занги, турми (?), курданг (?) и кхмер. Все они — простые бедные люди. У этих народов нет никаких благих обычаев и общественного устройства. Ради пропитания они грабят и воруют; они привержены к жеванию и пожирают людей, как если бы они были какими-нибудь ракшасами или злыми духами. Их речь отлична от языков „верных народов” и не является правильной и чистой. Не имеют себе равных, когда оказываются в воде, так как они могут оставаться там целый день и не погибают». [46]
В этом отрывке можно увидеть довольно характерные проявления китайской эгоцентрической предубеждённости, особенно против тёмной кожи (они даже персов называли «чёрными»!) и против относительной наготы, которая считалась предосудительной со времён династии Хань. Другие источники термином «курунг» определяют все страны к югу от Китая или приравнивают «курунг» к географическому понятию «Двипантара» санскритских сочинений. [47] Однако, судя по описанию Хуэй-линя, название «курунг» ограничивается только индонезийцами, ещё не вкусившими «благ» индийской культуры, т.е. неиндианизированным туземным населением Островов.
Когда великий Ли Дэ-юй, сосланный в Чаочжоу, лишился во время кораблекрушения своей любимой коллекции произведений искусства, за ней пришлось нырять «невольнику-курунгу». И нет никакого позора в том, что варвар-ныряльщик потерпел неудачу из-за обилия крокодилов. [48] Береговые индийцы и привычные к воде малайцы были излюбленными фигурами в популярных рассказах танского времени. В одном из них [49] невольник, отъявленный плут, устраивает юному герою тайное свидание с прекрасной куртизанкой, истолковывая непонятные знаки, которые дама делала пальцами. Позже этого раба, бежавшего от мстительного хозяина, обнаружили в Лояне, где он занимался продажей снадобий. [50] Всё это, несмотря на китайский «декор», очень напоминает арабские или индийские рассказы и в целом характерно для особого «экзотического» направления в литературе позднетанского времени. [51]
Как установлено, невольники-негры в танскую эпоху в Китае были известны только небольшому придворному кругу и на протяжении короткого периода. Этих редкостных существ китайцы называли zāngī, используя обозначение негров, распространённое по всему Малайскому архипелагу и существовавшее также в несколько иных видах — «зенджи» и «джанги». [52] Это название относится к обитателям Занзибара в древнейшем и наиболее широком значении этого географического термина, обозначавшем не только остров, который носит сейчас это имя, но и обширную область в экваториальной части Восточной Африки — удобный естественный пункт назначения для кораблей,
(72/73)
шедших из Персидского залива под северо-восточным муссоном. Затем наименование жителей Занзибара стало собирательным, и всякого негра называли «зенджи». За шестилетний промежуток — с 813 по 818 г. — ко двору Сянь-цзуна прибыли три миссии из расположенной на острове Ява страны Калинга, царь которой пил вино, приготовленное из кокосовых орехов, — страны «пагубных женщин», [53] переспав с которыми можно было погибнуть. Посольства из Калинги преподнесли императору (наряду с такими диковинами, как живой носорог и «пятицветный» попугай) несколько мальчиков и девочек занги. [54] Кроме этого сообщения имеется только одно упоминание о присылке девочки занги танскому Девапутре в 724 г. [55] из Шривиджайи, средоточия санскритской учености и буддийского благочестия. Эти чернокожие юноши и девицы не оставили никакого следа в китайской литературе, удостоившись лишь самых кратких упоминаний в исторических сочинениях. Для просвещенного танского двора VIII-IX вв. они были лишь быстро промелькнувшими диковинами и никогда не достигали прочного положения живописных арапчат с тюрбанами на головах эпохи европейского рококо. [56] Нет определённых сведений о том, как негритята, доставленные Сянь-цзуну, оказались в руках царя Калинги, однако обычно полагали, что попали они туда из Африки. Известно, что индийские пираты, потопив корабль, который был отправлен в 712 г. правителем Цейлона к халифу, захватили на нем «абиссинских рабов». [57] Затем чёрные невольники могли быть проданы где-нибудь на побережье Индийского океана и, возможно, даже оказаться увезёнными на Яву. [58] Не исключено, что танские монеты, найденные на Занзибаре и на сомалийском побережье, [59] были привезены туда китайскими торговцами живым товаром. Однако негроиды, присланные в Китай с Явы и Суматры, с равной вероятностью могли быть и обращёнными в рабство жителями Юго-Восточной Азии, где и сейчас есть население с чёрной кожей. Во времена Тан китайцам была известна «страна Кат-кат занги», остров у северо-западной оконечности Суматры, дикость обитателей которого наводила страх на моряков. [60] Такое место, расположенное близко от Калинги и Шривиджайи, вполне могло быть родиной негритят, отправленных в Чанъань.
Карлики. ^
Люди маленького роста — карлики и пигмеи, свои и чужеземные — вызывали, как и у других средневековых народов, восторженный интерес в танском Китае. Однако нельзя сказать, что мода на карликов при Тан была выражена сильнее, чем во времена династий, ранее правивших Китаем. Сам Конфуций
(73/74)
определил классический для карликов рост в три чи, когда речь шла о пигмейском народце, именовавшемся цзяояо [61] — название, означающее также «птица-королёк». Как сообщает предание, маленькие люди-«корольки» жили к юго-западу от Китая; впрочем, другие называли местом их обитания остров в юго-восточном море. [62] В древности они посылали в Китай в качестве дани слоновую кость, водяных буйволов (карабао) и зебу. Они были дикарями и превосходными пловцами. [63] Нет уверенности, что китайцы времён Чжоу или Хань хотя бы видели этих тропических пигмеев, принадлежавших либо к негроидной, либо к какой-то иной антропологической группе людей с курчавыми волосами (вроде современных сенуа). Но уже тогда в Китае имелись свои природные карлики — артисты, танцоры, музыканты.
Точно так же обстояло дело и при танских императорах. Город Даочжоу (в южной части современной провинции Хунань), известный большим числом рождавшихся там карликов, должен был посылать их ко двору каждый год в качестве «дани». Поэт Бо Цзюй-щ писал о них в IX в.:
В округе Даочжоу
Крошечный есть народ,
Даже самый высокий из них
выше трех чи не растёт.
На рынок крошечных этих рабов
что ни год присылают снова,
И это зовется: «дары от земель
округа Даочжоу».
Но разве могут такими
Быть дары от земель?.. [64]
Ян Чэн, гуманный правитель Даочжоу, в конце VIII в. по собственной инициативе приостановил представление ко двору столь необычной дани. Как и следовало ожидать, вскоре явился гонец из столицы, чтобы узнать, почему ожидаемая подать не поступила. Ян Чэн составил официальный ответ, в котором говорилось, что все уроженцы этого места необычайно низкого роста, так что он оказался не в состоянии решить по справедливости, кого именно отправить в столицу. Очевидно, что в этом ответе было больше хитрости, чем истины. Как бы то ни было, но в результате это требование было официально отменено, а имя Ян Чэна благословляли повсюду в этой местности. [65]
Гораздо большее удивление вызывали (и намного более, чем карлики-китайцы из Даочжоу, соответствовали изощрённым запросам эпохи) привозившиеся в Китай из-за границы пигмеи, к тому же напоминавшие людей-«корольков» древних времён. В 724 г. суматранским островным государством Шри-
(74/75)
виджайя (или Шрибходжа — название, под которым оно было известно арабам и китайцам), [66] был отправлен в Чанъань некий Кумара (значение этого слова — «царевич»; возможно, посланный и был им) с множеством редких даров для Сына Неба, среди которых большинство составляли человеческие существа: музыканты, девушка-негритянка (о ней уже упоминалось выше), а кроме того, два пигмея. [67] В том же году один пигмей был прислан из Самарканда, плодородной страны, изобилующей всяческими продуктами и изделиями. [68] О породе «коротких людей», живших далеко на северо-западе от этого места, в Китае слышали ещё с самой глубокой древности. [69] Рассказывали, что страна этих пигмеев богата жемчугом и светящимися драгоценными камнями. Другое предание сообщало, что они живут мирной жизнью в Сибири, к северу от тюрок; и единственными их врагами там являются огромные птицы, поедающие их, когда это удаётся; пигмеи же отчаянно защищаются с помощью луков и стрел. [70] Это, конечно, пигмеи античных греков, но только в дальневосточном варианте рассказа о них эти племена отнесены не к глубинным областям Африки, а к Восточной Европе или к Сибири. Однако и другая версия — исходная западная традиция, помещавшая пигмеев в Африке, — также достигла Китая.
«Маленький народ живет к югу от Великой Цинь [Дайцинь — Рим]. Их тела едва достигают длины трёх чи. Во время вспашки и сбора своего урожая они пребывают в страхе, опасаясь быть съеденными журавлями. Но Великая Цинь поставляет стражей, чтобы защитить их, а маленький народ истощает свои сокровища, чтобы расплатиться с ними и вознаградить их». [71]
Но откуда происходил настоящий, немифический пигмей, присланный царём Самарканда?
Заложники. ^
Не только невольники, но и многие другие категории иноземцев оказывались против своего желания в неволе у китайских владык. Одну такую группу марионеток, оказавшихся в безвыходном положении, составляли воины-арабы, посланные в VIII в. на помощь генералу Го Цзы-и для подавления великого бунта Рокшана. Но они были не единственными инородцами, жизнь которых не принадлежала им полностью и которые являли собой зрелище, вызывавшее интерес у жителей Поднебесной. От участи таких иностранных отрядов, если не считать разницы в социальном положении, мало чем отличалась и судьба заложников, содержавшихся в китайской столице в качестве гарантии дружественного расположения их титулованных или царственных сородичей за границей. Хотя институт заложни-
(75/76)
ков теоретически по китайским традициям был неприемлем, практика международных отношений часто требовала, чтобы об этих традициях забывали. Да и возражения, обычно выдвигавшиеся против системы заложничества, сами по себе были продиктованы скорее деловыми соображениями, чем гуманностью. Источником таких доводов была, как правило, ксенофобия, консервативное недоверие к иностранцам: считалось, что пребывающие в Китае варвары вполне могут оказаться зачинщиками смут или шпионами. [72] Во времена блистательных завоеваний VII в. было вполне обычным делом потребовать, чтобы тюркский или корейский наследник престола находился в чанъаньском дворце до тех пор, пока танское правительство не сочтёт благоразумным возвратить его. Даже сасанидский царевич Нарсе [73] содержался в Китае в качестве окружённого почетом заложника, возможно, впрочем, добровольного, после того как его отец Пероз бежал из Ирана и погиб. [74] Такой период вынужденного пребывания в Китае мог показаться невыносимо длинным, несмотря на не имевшие цены почётные одеяния и обеспеченный достаток. Высокородные заложники проводили время своей комфортабельной ссылки, находя утешение в какой-нибудь чисто условной должности при дворе: обычным делом было определение их в дворцовую гвардию. Не приходится сомневаться в том, что такие отпрыски иностранных владетелей выглядели необычайно элегантно в своих красочных мундирах китайского образца. [75] И только начиная с миролюбивого царствования Сюань-цзуна соответствующим властям вменялось в обязанность отправлять по домам престарелых заложников, находившихся при дворе не один десяток лет. [76] Положение иноземных заложников в Китае, внешне выглядевшее почётным, у них на родине воспринималось совсем иначе. Там его считали унижением и неволей: «Сыновья тюркской знати стали рабами людей Китая, их непорочные дочери стали подневольными служанками». [77]
Подати людьми. ^
Мужчины и женщины, которых отправляли танскому двору в качестве царских подарков (или «дани», как истолковывали такие подношения сами китайцы), с точки зрения свободы распоряжаться собой находились по сравнению с заложниками в ещё более зависимом положении, поскольку от них требовали исполнения определённых обязанностей, и мало чем отличались от рабов. Любой смертный, отличавшийся какими-нибудь необычайными качествами, мог быть сочтён подходящим для такой роли, а китайские города ещё с древности были приучены отправлять к императорскому двору разного рода необыкновен-
(76/77)
ные или диковинные вещи, к которым вполне могли причисляться и человеческие существа. Весьма типичным подношением, представленным одним северо-западным городом в начале VIII в., была женщина, всё тело которой было покрыто очертаниями храмов и изображениями разных будд, рельефно выступавших у неё на коже. [78] Столь же поразительными были два белоголовых человека с бледной кожей — дикари-альбиносы, присланные камбоджийским государством Бнам. [79] Но люди из далёких стран, примечательных именно благодаря своей отдалённости и необычайности, казались достаточно диковинными сами по себе. Так воспринимались и четыре карлука из района озера Балхаш, присланные в Чанъань уйгурами в 822 г., [80] и айн с невероятно большой бородой, доставленный японским посольством в 669 г., [81] и преподносившиеся в дар тюркские женщины, [82] и тибетские девушки, которых присылали в качестве поздравительного подарка по случаю китайского государственного празднества. [83]
Но самыми лучшими подношениями из всех считались мудрые люди, ведуны из дальных стран, сверхъестественные познания которых казались ещё более заслуживающими доверия в силу их чужеземного происхождения. Таким человеком был великий Муша, т.е. один из манихейских избранников, — человек, глубоко сведущий в «конфигурациях небес», присланный с этой рекомендацией в 719 г. царём Тохаристана. [84] Таким был также и Нараянасвамин, составитель лекарств, которого в 648 г. доставил из Магадхи Ван Сюань-цэ. [85] Он утверждал, что ему двести лет и что он умеет приготовлять эликсир бессмертия. Этот мудрец поведал танским придворным немало небылиц: он рассказывал, например, о чудодейственной влаге, которую можно найти только в каменной ступе в глубине гор Индии. Эта могущественная жидкость обладала свойством растворять плоть, дерево и металл. Собирать её можно было только в череп верблюда, а перевозить — в бутыли из тыквы горлянки. Этот источник охраняется каменным изваянием, и смерть ожидает того жителя гор, который откроет это место чужому человеку. [86] Почтенный рассказчик был хорошо принят китайским императором, получившим лестные рекомендации через высокопоставленного чиновника, и ему было милостиво предписано приготовить его снадобья, продлевающие жизнь. Однако, поскольку все попытки оказывались неудачными, его влияние падало, и в конце концов он был отставлен от императорской службы. Остаток своих дней этот старец провел в Чанъани, обеспеченный, вне всяких сомнений, обширной клиентурой. [87] Другим таким чудотворцем был присланный ко двору в VII в. одной западной страной жрец, который обладал силой с помощью заклинаний возвращать к жизни мёртвых. Тай-цзун нашёл
(77/78)
среди стражников «добровольцев» для опытов в доказательство такого могущества. Иноземец с помощью своих чар умертвил их, а затем таким же путем оживил. После этого добродетельный советник трона якобы сказал монарху, что искусство это от нечистой силы, которая бессильна против истинно праведного человека (т.е., конечно же, его самого); и в самом деле, чужеземец-ведун упал замертво, когда стал произносить свою тарабарщину в адрес этого примерного вельможи. [88] Злополучный чудодей, несомненно, был искусным гипнотизёром, а все, что касается его смерти, явно подверглось искажению (и было приукрашено) в последующей передаче.
Музыканты и танцоры. ^
Но из всех умельцев, присылавшихся в Китай иностранными правительствами и занимавших несколько двусмысленное общественное положение, самыми популярными и влиятельными были музыканты-исполнители, певцы и танцоры, привозившие с собой не только инструменты, но и музыкальные вкусы. И когда в историческом источнике сообщается, что Япония в 853 г. преподнесла танскому двору «музыку», [89] под этим словом следует понимать как музыкальные номера и произведения (их рассматривали как ценности, которые как вполне вещественная собственность могут переходить из одних рук в другие), так и исполнителей вместе с инструментами японского изготовления. На протяжении многих веков музыка Западного края находила в Китае почитателей, но при императорах династии Суй мода на неё была особенно велика. Не уменьшилась она и во времена Тан. Когда страны Западного края попадали под власть Китая, их музыка «захватывалась», как и всякая другая военная добыча, и соответственно её требовали представлять ко двору в качестве «дани» от зависимых стран. Иностранные оркестры включались в состав многочисленного придворного персонала, им предписывалось играть для придворных и вассалов во время «неофициальных» дворцовых торжеств. В противоположность этому на «официальных» церемониях должны были звучать традиционные мелодии, исполнявшиеся на старинных китайских инструментах, главным образом на колоколах, литофонах и цитрах. [90]
Привычка слушать экзотические мелодии и вообще проявлять к ним великосветский интерес распространилась из придворных кругов на знать, а затем во все слои городского населения:
У стены городской слышны крики «кок-кок»,
словно квохчут горные птицы, —
Это музыке варваров нынче в Лояне
в каждом доме хотят научиться. [91]
(78/79)
Но не похоже, чтобы это нелестное сравнение поэта могло оказать какое-то влияние на всеобщее увлечение. Главными очагами распространения музыкальных мод высших слоев среди народа служили два казённых «квартала обучения» [92] в Чанъани, которые можно сравнить с кварталами Гион и Понтотё в современном Киото. Один квартал специализировался в пении, другой — в танце. [93] Здесь поднесённые в дар музыканты, певицы и танцовщицы находились на таком же положении, как и казённые проститутки, [94] гейши самого высокого ранга постигали развлекательный музыкальный репертуар, чтобы услаждать тех, кому Сын Неба оказывал такую милость. От них эта новая музыка переходила к независимым великосветским куртизанкам, а затем спускалась в круги полусвета и через городских гуляк попадала в общий поток танской культуры. Эти властительницы музыкальных вкусов из «кварталов обучения» старались не пропустить вновь появившихся мелодий и заботились об обновлении слов старинных песен, любимых публикой. Пользовались успехом мелодии «Музыка к освобождению из неволи сокола», «Плывя в ладье дракона», «Сокрушение южных варваров», «Зеленоголовая утка» и множество других, исполнявшихся обитательницами этих кварталов, к большому восхищению всех слоёв общества, если только рачительное благоразумие не призывало к осуждению этих дам, как это бывало во время внезапных, но коротких периодов, когда властитель выражал решимость ограничить расточительность придворных кругов и издавал указ, направленный против таких безрассудств, как скупка жемчугов и нефрита, ношение изукрашенных шарфов и устройство выступлений женщин-музыкантов. [95] Но когда порядки не были излишне пуританскими, эти девы вдохновлялись на создание таких мелодий, как «Три плоскогорья тюрок», «Южная Индия», «Музыка Кучи» или «Следя за месяцем в стране Брахманов». [96] Эти песни были подсказаны мелодиями, исполнявшимися иноземцами (главным образом музыкантами, доставленными в качестве «дани»), но требовали соответствующей обработки, чтобы не слишком расходиться с привычными вкусами. Нетрудно представить, что это были псевдоэкзотические сочинения вроде нашей нынешней «Индийской песни» или песен «Там, где Ганг струится в океан» и «Любовный сон в Пагане».
Такая не совсем непривычная музыка — с экзотическим «содержанием» и в экзотическом «стиле» — была характерна для VII в. [97] В VIII столетии псевдоэкзотическое уступило место подлинно чужеземному, популярная китайская музыка этого времени стала похожей по звучанию на музыку городов-государств Центральной Азии. Так, знаменитая песня «Радужная рубашка, одеяние из перьев», которая всегда будет напоминать
(79/80)
нам о Сюань-цзуне (рассказывают, что этот царственный меломан содержал тридцать тысяч музыкантов), на самом деле была только переделкой центральноазиатской песни «Брахман». Так музыкальные традиции Кучи, Ходжо и Кашгара, Бухары [98] и Самарканда, Индии и Кореи под официальным покровительством слились с китайской музыкальной традицией. В IX в., когда строгая классическая музыка снова приобрела значение в придворных кругах, [99] приток чужеземных влияний приостановился. И хотя в эти годы в Китай ещё попадала музыка из Индокитая (в особенности из Бирмы и из государства Наньчжао), она, видимо, уже не оказывала, по существу, никакого воздействия на музыку Поднебесной. [100]
Музыка Кучи оказала наибольшее (если сравнивать с другими городами Сериндии) воздействие на танскую музыкальную культуру. И утончённые ценители, и грубые горожане одинаково жадно внимали мелодиям «танца барабана», исполнявшегося кучинскими оркестрами. [101] Пользовались предпочтением и инструменты, на которых играли кучинские музыканты. Самым важным из этих инструментов была четырёхструнная лютня с изогнутой шейкой, на технические возможности и строй которой были рассчитаны двадцать восемь популярных видов танской музыки и восходящие к ним мелодии. [102] Гобой и флейта, также занимавшие важное место в музыке Кучи, оказались поэтому распространёнными и в Китае. [103] Самым любимым из всех кучинских инструментов был, однако, лакированный барабанчик из кожи валуха [104] с возбуждающими ритмами и экзотическими песнями на испорченном санскрите, исполнявшимися в его сопровождении. [105] Сам великий Сюань-цзун, как и многие другие знатные особы в Китае, был искусным мастером игры на таком барабанчике. [106]
Наибольшей известностью пользовалась гибридная музыка «Западного Лян», пограничного города, официально называвшегося в танскую эпоху Лянчжоу. Эта музыка представляла собой необычный сплав музыки Кучи с традиционной китайской: в ней находилось место для, казалось бы, несовместимых звучаний вроде сочетания кучинской лютни с классическими китайскими курантами-литофонами. В VIII в. и позднее её прославляли поэты. [107]
Музыка северных соседей танской державы, воспринимавшаяся как «унылая» и «резкая», также оказывала своё влияние, но в основном на военные оркестры. Такое созвучие «ударных и духовых» [108] — живая и эмоциональная музыка, исполнявшаяся рожками, барабанами и гонгами, — более всего подходила для придворных празднеств, официальных триумфальных процессий и других случаев, требующих выражения патриотических чувств. [109]
(80/81)
Музыка индийского происхождения попадала в Китай не только через Центральную Азию: народы Индокитая (т.е. Тямпа, Камбоджа и бирманское государство Пью) также присылали свои оркестры и своих танцоров, представлявших сочинения на темы, взятые из буддийских текстов, например «Мудры будды», «Победа сражающегося Рамы», «Павлиний царь». [110]
Некоторые из таких танцевальных пантомим, доставлявших наслаждение людям танской эпохи, в переработанной и застывшей хореографии дожили до XX в. и включаются в Японии в представления, которые дают как музыканты и танцоры при дворе, так и некоторые любители классики, тогда как в странах Азиатского материка эти балетные представления [111] оказались совершенно забытыми. Оркестры, которые в наши дни сопровождают эти «реликтовые» спектакли в Японии, должны довольно близко напоминать своих предшественников времен Тан. Они состоят из трёх групп инструментов. Первая группа — духовые деревянные — включает в себя горизонтальные флейты, гобои и «губные органчики», исполняющие мелодию в высоком регистре, расцвечивая её красочными гаммами. Во вторую группу — ударных — входят: гонг, маленький «барабан валуха» на подставке и «большой барабан», подвешенный на ярко-красной станине, увенчанной золотыми языками пламени. В третьей группе — цитра, [112] лютня и струнные басового звучания. Такой оркестр исполняет произведения с чётким разделением частей, чаще всего свободные прелюдии, для которых принята определённая форма — вступительная часть, исполняемая на высоких нотах «губным органчиком», затем свободное развитие темы и быстрая кода. [113] «Калавинка» — одна из танских музыкальных пьес, сохранившаяся в японских партитурных записях XIX в. и исполняемая ещё и сейчас, названа так по имени божественной птицы буддийского рая. [114] Эта пьеса считалась переданной людям в виде откровения ангелоподобным существом. Созданная в Индии, она была привезена в Китай, вероятно, через Тямпу [115] и в итоге достигла Японии, где пользовалась большим успехом в IX в. [116] «Калавинка» была представлена в 861 г. в Нара во время посвящёний новой головы для изваяния Вайрочаны в храме Тодайдзи, с танцами, поставленными китайским хореографом-эмигрантом, и с новой музыкой в стиле страны Тям, исполнявшейся флейтистом Ванибэ Отамаро. [117] Этот танец и теперь исполняется в Японии четырьмя мальчиками, снабжёнными крыльями и одетыми в венки из цветов; они играют на маленьких цимбалах, подражая волнующему небесному голосу птицы калавинки. [118] Другая японская пантомима, представления которой также ещё даются в Японии, называется «Ботоу». [119] В ней изображается юноша в
(81/82)
простой одежде, с беспорядочно растрёпанными волосами, который разыскивает дикое животное, съевшее его отца. Эта пьеса также попала в Японию из Китая, но в конечном счете она происходит из Индии. [120] Среди других известных нам пантомим были такие, как «Варвар, пьющий вино», демонстрировавшая пьяного «варварского» предводителя; «Бхайрава сокрушает боевой строй» — подвиг бога Шивы в его устрашающем облике; «Музыка для ударов по мячу» — инсценировка игры в поло. [121] Но самым забавным в своём первоначальном виде должно было выглядеть представление «Брызгаю водой варвара, умоляющего о холоде» [122] — танец зимнего солнцестояния, который исполняли обнажённые юноши, китайские и иноземные, прыгая в фантастических масках под громкие звуки барабанов, лютней и арф и поливая ледяной водой друг друга, а заодно и тех, кто оказывался поблизости. Это озорное зрелище вызвало такое осуждение добропорядочных подданных, что уже в 714 г. Сюань-цзун был вынужден отдать распоряжение о его отмене. [123]
Добавим к этому, что выступления акробатов и фокусников, по существу, никогда не считались менее благородным зрелищем, чем музыкальные представления. Фокусы и выступления чародеев, канатных плясунов, акробатов, пожирателей огня и карликов назывались совокупно «смешанной музыкой», [124] и немало таких исполнителей из Туркестана и Индии появлялось в городах Китая. [125] Представления факиров, включавшие демонстрацию самоистязания, регулярно давались в храмах Ахура Мазды в Лянчжоу и в Лояне. [126] Представления иноземных трюкачей, часто допускавшиеся официально или даже пользовавшиеся одобрением таких незаурядных монархов, каким был Сюань-цзун, иногда всё же подвергались запретам со стороны верховных властей. Гао-цзун, например, повелел изгнать с китайской земли некоего индийца, который завораживал публику демонстрациями самопотрошения и отсекания членов, и распорядился, чтобы никого из его собратьев более не присылали ко двору из-за этих рубежей. [127]
Хотя в Китае с древних времён были знакомы с театром теней, в котором выступали куклы из пергамента, считается, что куклы-марионетки впервые попали в Чанъань из Туркестана в VII в. [128]
Китайцы постигали, как могли, новое музыкальное искусство, но всё равно зарубежные маэстро, особенно из Трансоксианы и Восточного Туркестана, всегда были желанны, как знатоки своего дела, несмотря на то что танскому тщеславию была ненавистна сама мысль о том, что китайский гений не может взять верх над ловкостью чужеземцев. Актёр из Бухары, флейтист из Самарканда, гобоист из Хотана, танцор из Ташкента,
(82/83)
сочинитель песен из Кучи — все они могли быть уверены, что найдут себе применение на Дальнем Востоке. [129] И в то же самое время хорошо известный китайский писатель мог сочинить историю о дворцовой служанке Тай-цзуна, которая, прослушав один раз исполнение выдающимся чужеземным музыкантом пьесы для лютни, совершенно точно воспроизвела её. Посрамлённый исполнитель покинул Китай, и, «когда об этом прослышали в странах Запада, несколько десятков из них попросили о подчинении Китаю». [130] Таково, мол, было величие танской культуры.
Много иноземных исполнителей доставлялось в качестве подарков от далёких царств; о таких людях и об их музыке делались записи в танских анналах. Но было немало вольных музыкантов, завоевавших себе славу в Китае. И хотя их произведения не входили, как музыка Кучи и Самарканда, в официальный придворный репертуар, они были очень популярны среди народа. Так было с безымянными музыкантами из Кумеда, страны в Припамирье, на искусство которых не обратили внимания официальные хронисты; так было и с музыкантами из Кабудана, преимущественно лютнистами, получившими в Китае по названию своей страны фамилию Цао; уроженцев этой страны среди иностранных музыкантов в Китае было больше, чем из всех других стран. [131] Но нам придется вернуться от этих независимых и странствующих по далёким краям артистов к рассмотрению нашей непосредственной темы — музыкантов, которые были собственностью властителей или обывателей.
Самую низкую ступень среди этих одаренных невольников занимали мальчики, игравшие на поперечной флейте, [132] любимцы вельмож вроде западного «птенца», который был у Сюань-цзуна в составе исполнителей «Грушевого сада»: [133]
С кудрявой головкой из варварских стран
мальчик зеленоокий
В безмолвную ночь на бамбуковой флейте
в башне играет высокой. [134]
Самыми влиятельными среди подневольных музыкантов были зрелые мастера, пользовавшиеся успехом и как исполнители и как наставники. Для некоторых инструментов (во всяком случае, просвещённому человеку) считалось совершенно необходимым обучаться под руководством учителя-иностранца, чтобы достичь в искусстве подлинных высот утончённости. Мы читаем об одном превосходном китайском лютнисте VIII в., к которому восхищённый слушатель, заметивший чужеземный характер его интерпретаций, обратился с вопросом: «Не кучинский ли это лад?» На что польщённый музыкант ответил: «Мо-
(83/84)
им наставником действительно был человек из Кучи». [135] Одним из таких знаменитых маэстро был кучинец Бо Мин-да (хотя неизвестно, был ли он подневольным или свободным человеком). [136] Он сочинил пользовавшийся популярностью балет «Трели весенней иволги», ярко расцвеченный мелодиями Кучи, который был воспет в стихах Юань Чжэня и до сих пор ставится в Японии. [137]
В Китае с древнейших времён существовало обыкновение отправлять в качестве подарка от одного властителя к другому красивых девушек, обученных музыке, — исполнительниц, музыкантш, певиц и танцовщиц, хотя нравственные принципы «конфуцианского» толка и рассматривали такие дары как в высшей степени легкомысленные и распутные. Тем не менее многие танские правители принимали такие подношения от властителей более низкого ранга, и в частности от властителей «индианизированных» народов Туркестана. Так, «женщины-музыканты» были присланы в 733 г. царём Хутталя, страны в верховьях Окса, богатой лошадьми, красными леопардами и конями «чёрной соли». [138]
Из всех артистов, ввозившихся из Центральной Азии, наибольшее восхищение вызывали танцоры — юноши и девушки. Их представления традиционно подразделялись на две группы — «гибкие» танцы и «энергичные» танцы. [139] Балет Бо Мин-да «Трели весенней иволги» был характерным для танцев первой группы — поэтических, изящных и утончённых. Но именно танцы из группы «энергичных» были более всего популярны и поэтому чаще всего упоминаются поэтами танской эпохи. Три танца из этой группы известны довольно хорошо. Одним из них является «Западный скачущий танец», [140] обычно исполнявшийся мальчиками из Ташкента, одетыми в блузы иранского образца с облегающими рукавами и в высокие остроконечные шапки, обшитые сверкающими бусами. Они были подпоясаны длинными кушаками, концы которых свободно развевались, когда танцоры припадали к земле, кружились и прыгали под быстрый аккомпанемент лютней и поперечных флейт. [141] «Танец Чача», [142] названный так по месту своего происхождения — древней области в районе современного Ташкента, [143] танцевали две юные девушки в газовых халатах, украшенных многоцветной вышивкой, с серебряными поясами. На них были также рубашки далёкого Запада с узкими рукавами и остроконечные шапки с золотыми колокольчиками, а на ногах — красные парчовые туфли. Девушки появлялись перед публикой, возникая из лепестков двух искусственных лотосов, и исполняли танец под звуки барабанов. Это был эротический танец: девушки строили глазки зрителям и, заканчивая выступление, приспускали свои рубашки, чтобы были видны их обнажённые плечи: [144]
(84/85)
Застелена ровно скамья для гостей,
развёрнут коврик парчовый.
Тройными ударами барабан
торопит снова и снова.
Вот поднимается Персика Лист
при свете свечи принесённой:
Это явилась певица из Чача,
колышет рубашкой лиловой.
Тянут подвески узорные вниз
пояс на стане-цветке,
Слышен на шапке над снежным лицом
звон бубенца золотого.
Когда же закончилась песня её,
никто усидеть не может —
Клубятся тучи, собрался дождь,
бежать на Янтай готовы. [145]
Это стихотворение «Певица из Чача», [146] написанное Бо Цзюй-и, — прекрасный пример произведения на экзотические темы в поэзии начала IX в., эротическое содержание которого скрыто проявляется в последней строке, где древние символические образы «облаков и дождя» и «солнечной террасы» связывают эти фееподобные создания с мифом о богине плодородия и содержат намёк на соитие полов. Странные слова о поднимающихся лепестках персика, очевидно, должны изображать фейерверк. [147]
Наибольшей любовью среди всех юных танцоров с далёкого Запада пользовались «Девы с Запада, крутящиеся в вихре». [148] Немало их было прислано в качестве даров от правителей Кумеда, Кеша, Маймурга и особенно Самарканда во время царствования Сюань-цзуна, т.е. на протяжении первой половины VIII в. [149]
Эти согдийские девушки, облачённые в алые платья с парчовыми рукавами, в зелёные дамаскиновые шаровары и в сапожки из красной замши, скакали, передвигались прыжками и вращались, стоя на шарах, перекатывавшихся по площадке для танцев, к восхищению пресыщенных сердец богатых и знатных зрителей. Сюань-цзун очень любил этот танец, а госпожа Ян и Рокшан обучались его исполнению. [150] А кое-кто видел губительное падение нравов в этом увлечении созерцанием кружащихся дервишей женского рода. [151]
Меньше попадало в танский Китай музыкантов и танцоров из других частей Азии. Тем не менее, если говорить о странах Индокитая и Индонезии, то государство Наньчжао, расположенное на юго-восточной границе Тан, отправило оркестр, который в 800 г. выступал перед китайским императором. [152] Этот чужеземный оркестр, возможно, уже имел гибридный характер, поскольку китайский посланец несколькими годами ранее видел в Наньчжао исполнителей кучинской музыки, которые задолго
(85/86)
до того были отправлены в Наньчжао Сюань-цзуном и всё ещё играли в оркестре. [153] После того как в конце VIII в. в результате китайского завоевания Наньчжао [154] открылось сообщение с танской державой, государство Пью на территории Бирмы преподнесло в 802 г. оркестр из тридцати пяти исполнителей, игравший произведения, написанные на сюжеты буддийских сочинений, отсчитывая такт сжатием кулаков и аккомпанируя на круглых раковинах и красиво отделанных гравировкой бронзовых барабанах вроде тех, какие имелись у состоятельных «варваров» Южного Китая. [155] Владение Шрибходжа (на острове Суматра) прислало в 724 г. ко двору Сюаиь-цзуна ансамбль музыкантов, [156] а группа музыкантов-женщин с острова Ява прибыла из государства Калинга во второй половине IX в. [157] Одиннадцать японских танцовщиц были препровождены ко двору Тан в 777 г. представителями царства Бохай. [158] В другом случае японское посольство привезло как подношение священные «звучащие раковины». [159]
Когда в VII в. были завоёваны царства Когурё и Пэкче, стала пленницей и музыка этих корейских государств: целые оркестры вместе с инструментами и нотными закисями были увезены в Китай как добыча. [160] Исполнители из Когурё и их потомки более ста лет продолжали преданно играть для китайского двора, но из двадцати пяти произведений, известных им в конце VII в., к концу VIII в. они помнили только одно, а сами музыканты уже совсем утратили родные обычаи своих пленённых предков. Что же касается оркестрантов из Пэкче, то они уже к началу VIII в. или умерли, или рассеялись. [161] Более продолжительное существование коллектива оркестрантов из Северной Кореи (т.е. из Когурё), может быть, объясняется тем, что две группы их коллег и соотечественников, уже оказавшихся подданными царства Силла, были привезены вместе с инструментами к танскому двору в 818 г., пополнив собой поредевший состав невольных эмигрантов. [162] Поднимавшееся на Корейском полуострове царство Силла, которое находилось в дружеских отношениях с династией Тан, прислало в 631 г. Тай-цзуну пару пригожих девушек, отличавшихся как своими прекрасными волосами, так и музыкальными талантами. Император изрёк несколько нравоучительных сентенций (вроде следующего: «Мы наслышаны, что наслаждение звуком и цветом не может идти в сравнение с любовью к добродетели» [163]), затем поведал терпеливым послам, как он отослал обратно в Тямпу царское подношение — белого молуккского какаду, и, заключая свою речь, провозгласил, что эти очаровательные девы более достойны сочувствия, чем какой-то экзотический попугай, и потому они должны отправиться обратно в Силлу. [164]
(/379)
К главе II. Люди (с. 64-86). ^
[1] ЦТШ, 199а, 3615г. О массовом обращении мирного населения в рабство в дотанское время см.: Ван И-тун 1953, с. 303.
(379/380)
[2] Свирель — сяо, флейта — ди, гобой — дили, кларнет — цзяо.
[3] «Хэ чао хуань».
[4] Т.е. воинский наряд, включающий сапоги и штаны «варварского» образца. Ср.: Уэйли 1923, с. 117-118. «Тюркский» костюм был обычным боевым облачением.
[5] Фитцджеральд 1933, с. 153-154.
[6] Эта церемония описана со всеми подробностями в ТХЯ, 33, 607-610.
[7] ТХЯ, 14, 321; речь идёт о празднестве в честь Ли Цзи и его подчинённых после преподнесения пленных из Корё (669 г.).
[8] Чжаолин.
[9] ТХЯ, 14, 320-321.
[10] Как это было с пленными из Кореи, принесёнными в жертву у гробницы в 666 г. (ТХЯ, 14, 321).
[12] ТШ, 135, 3980б.
[13] ТХЯ, 14, 321.
[14] ТХЯ, 14, 320. О том, как обстояло дело с двумя другими выдающимися пленниками (оба они были тюрки), см.: ТХЯ, 14, 320 (под 681 г.).
[15] ЦТШ, 198, 3613г; ЮЯЦЦ, 7, 57.
[16] Ван И-тун 1953, с. 301.
[17] Приведён только отрывок из этого прекрасного стихотворения. < В английском оригинале это стихотворение дано в переводе А. Уэйли. Жуны — китайское название тюркских племён. >
[18] Ван И-тун 1953, с. 302.
[19] ВШ, 12, 1932г.
[20] Мэдли 1955, с. 267-268. М. Мэдли отмечает, что, «когда в VIII и IX вв. возникла потребность уменьшить число рабов на императорской службе, многих выставляли для продажи на рынке, где они шли по высокой цене. Особенно ценились дворцовые рабы — не только за их деловые качества и за их умение держать себя, но и из соображений престижа, а также за то, что они могли рассказать о дворцовых скандалах и сплетнях».
[21] Обращённые в рабство военнопленные были зачислены в состав личной стражи Тай-цзуна и Сюань-цзуна (Пуллибланк 1955, с. 142).
[22] ТХЯ, 86, 153; Балаш 1932, с. 10.
[23] Пуллиблэнк 1955, с. 42, 46.
[24] Балаш 1932, с. 2-3.
[25] Уэйли 1960, с. 162.
[26] Балаш 1932, с. 11. Он отмечал, что рабы играли незначительную роль в сельскохозяйственном производстве средневекового Китая — контраст с римским рабовладением разительный. Однако Ван И-тун (1953, с. 334-335) показал, что, когда в Северной Вэй и Суй производились земельные пожалования видным людям, каждому давались и определённые контингенты рабов для возделывания этих полей.
[27] Балаш 1932, с. 13.
[28] ЮШЧТЩ, 23, 10а-10б. < «Песня о торговом госте». Холст, омытый огнём, — это асбест; Огненные земли — поэтическое и мифологическое название стран к югу от Китая; Шу — Сычуань; си — маньчжурское племя; дансяны — одно из племён, впоследствии вошедших в состав тангутского народа; туфани — древнее название тибетцев. >
[29] Вильбур 1943, с. 90.
[30] Ср.: Пуллибланк 1958, с. 206-207. Перед законом раб не был равен свободному человеку. Он подлежал смертной казни, если обвинение в преступлении — справедливое или ложное — исходило от его хозяина; его ожидала смерть за применение насилия по отношению к свободному человеку; он заключался в тюрьму на срок, исчислявшийся годами,
(380/381)
за связь со свободной женщиной, даже если это происходило с её согласия (Вильбур 1943, примеч. на с. 151, 156). Рабам-чужеземцам не разрешалось жениться на китаянках, свободным китаянкам было запрещено их усыновлять (Балаш 1932, с. 11; Вильбур 1943, с. 158). В основе таких законов коренилась боязнь осквернения чужеродными кровями. О танских законах, ограждавших рабов, см.: Пуллибланк 1958, с. 212-217.
[31] Накамура 1917, с. 488; Такакусу 1928, с. 462.
[32] Бартольд 1958, с. 236, 240 < *Бартольд 1963, с. 295, 299, 300 >. Саманидская администрация выдавала особые разрешения торговцам тюркскими рабами; тюркские рабы составляли важную статью экспорта Ферганы.
[33] Указ 701 г. запретил такую торговлю (ТХЯ, 86, 1569).
[34] Бартольд 1958, с. 235 < *Бартольд 1963, с. 295, где приведены слова Макдиси (X в.) об этом >.
[35] Вильбур 1943, с. 92-93.
[36] ТХЯ, 8б, 1571. Двумя годами позже посол из государства Силла ходатайствовал перед китайским императором о том, чтобы были приняты меры для возвращения па родину бездомных корейцев, высаженных и брошенных на шаньдунском побережье.
[37] ЦТШ, 199а, 3615г.
[38] Балаш 1932, с. 6-7; Пуллибланк 1958, с. 207, 217. В дотанские времена туземцы к северу от этих областей были обращены в рабство. Например, племена ляо в Сычуани были захвачены и сделаны рабами в ходе осуществления этой политики правительства (Ван И-тун 1953, с. 307-308).
[39] ЦТВ, 50, 6б-7а.
[40] ЦТВ, 81, 9б-11а.
[41] ЦТШ, 154, 3486а; Накамура 1917, с, 364.
[42] ЧЦЕШЦ, 6, 18а. < «У южных варваров маней» > Медные столбы (нечто вроде геркулесовых столпов на Западе) здесь обозначают традиционную границу ареала китайской культуры на юге. «Единорог Златой», очевидно, является заменой для «Квартал Златой». Оба читаются цзиньлинь. «Золотым Кварталом» назывался танский гарнизон в Аннаме, а в более ранние времена — некая страна далеко на юге, представления о которой были нечеткими, т.е. Суварнадвипа или Суварнабхуми (Цзиньчжоу) — Золотой полуостров. См.: Пельо 1903, с. 226; Льюс 1924, с. 151-154; Уэтли 1961а, с. 116-117. < Для Цзиньлинь, переведенного у Э. Шефера «Единорог Златой», а в русском переводе — «Брег Златой», в разных изданиях встречаются два варианта написания. Написание с иероглифом «берег», точно передающее санскритское Суварнадвипа, представляется нам более правильным; Э. Шефер в своём переводе выбрал менее точное, но более «экзотичное» написание с иероглифом «единорог». >
[43] Кристи 1957а, с. 352. Современное кхмерское krong phnom. Поэтому страна кхмеров называлась у китайцев Бнам (Гора); в современном стандартном китайском произношении это название превратилось в Фунань (см. Введение).
[44] О пережитках этого представления см.: Брэддел 1956, с. 16.
[45] ЦТШ, 197, 3609г. Приведенная здесь транскрипция куньлунь обычно рассматривается как китайская передача названия Курунг, хотя некоторые больше склоняются к тому, что куньлунь передаёт некое гипотетическое кхмерское слово; такими словами могли быть ku(t)-lun (Курунг?) и в особенности ku-lung «древний дракон», которое китайцы приводили как родовое имя царей Бнама (Пельо 1904, с. 230). Другие охотнее связывали куньлунь с местными формами вроде prum и krom,
(381/382)
отразившимися в арабской передаче как комр и камрун (Р. Стейн 1947, с. 238).
[46] ИЦЦИИ, 81, 835в. Если следовать П. Пельо (1959, с. 599), «кхмер» — это китайское *Kâp-miet. У меня «турми» — это *T’uət-mjie»; «курданг» — *Kuət-d’âng.
[47] Пельо 1959, с. 600; Уэтли 1961а, с. 183.
[48] Накамура 1917, с. 263, где цитируется ЛБЛИ. См. также: Чжан 1929, с. 96, где цитируется «Пинчжоу кэ тань». Чжан Син-лан был главным защитником теории о том, что рабы-куньлунь в средневековом Китае являлись неграми, доставленными из Африки через посредство арабов. См.: Чжан Син-лан 1929; Чжан Син-лан 1930, т. 3, с. 48-81; Чжан Син-лан 1931. Он опирался главным образом на китайские тексты, которые описывают этих людей как «чёрных» — термин, который китайцы прилагали ко всем людям более тёмного цвета кожи, чем их собственная, — к жителям Тяма и даже к персам, точно так же как современные колониальные чиновники называют все туземные народы экваториальных областей. Чжан Син-лан опирается также на упоминания о курчавых и вьющихся волосах, но этот признак характерен для различных народов Индии, Индокитая и Индонезии. Как мы ещё увидим, негров явно отличали от таких народов Индии и индианизированных стран Индийского океана. Подлинной загадкой являются «дьявольские рабы» в источнике сунского времени (начало XII в.) «Пинчжоу ко тань», курчавые волосы которых были «жёлтыми». В английском тексте своей диссертации Чжан Син-лан переводит китайское хуан неопределённым tawny [«рыжевато-коричневый»] вместо недвусмысленного «жёлтый», но это отнюдь не спасает положения. Эти чёрные как смоль «дьявольские рабы», обладавшие огромной силой (которых определённо отличают от «курунгских рабов», этих отважных пловцов), могли принадлежать к какому-нибудь негроидному племени папуасов или меланезийцев, а их волосы могли быть побелены, как ото принято у некоторых племён и в наши дни. Можно допустить, что некоторые из этих темнокожих были африканскими неграми. Чжэн Чжэнь-до (1958, с. 5) определил некоторые танские терракотовые погребальные статуэтки как изображения «куньлуньских рабов» главным образом на основании их курчавых волос. Они одеты в нечто вроде дхоти или саронга (см.: Малер 1959, с. 84, 88). Ещё в 1911 г. Ф. Хирт и В. Рокхилл (1911, с. 32) утверждали достаточно определённо, что рабы из Куньлуня «были, по всей вероятности, малайцами или темнокожими жителями полуострова Малакка и островов, лежащих южнее». П. Пельо, вероятно, был прав, полагая, что эти курчавые куньлуньцы были со временем перепутаны с подлинными неграми-занджи. «Другими словами, индонезийских темнокожих могли называть занджи, хотя они не являлись африканскими неграми, в то время как африканские негры-занджи также должны были фигурировать в Китае как куньлунь» (Пельо 1959, с. 600).
[49] «Куньлуньский раб» Пэй Сина, включённый в его «Чуаньци» в ТПГЦ, 194.
[50] «Дочь царя драконов» 1954, с. 89. Чжан Син-лан (1930а, с. 44-59) приводит текст этой и других новелл о курунгских рабах.
[51] О языке знаков см.: Бартон 1934, т. 1, с. 774; т. 1, с. 931, примеч.— со специальной ссылкой на «Рассказ об Азизе и Азизе».
[52] Реконструируемое китайское произношение — *səng-g’ji или *səng-g’jie. Как показал П. Пельо (1904, с. 289-291), Г. Шлегель совершенно запутался, пытаясь доказать, что это название означает «сиамцы». См.: Пельо 1959, с. 597-603. < В русской востоковедной литературе более принято написание этого этнонима как «зинджи» — по названию острова Занзибар и побережья Восточной Африки. >
(382/383)
[53] Об этих «пагубных женщинах» с позиций естествознания см.: Пензер 1952, с. 3-71.
[54] Четыре мальчика в 813 г. (ТХЯ, 100, 1782; ТШ, 222б, 4159в); пять мальчиков в 815 г. (ЦТШ, 15, 3111б; ЦТШ, 197, 3610а; ЦФЮГ, 972, 7а); две девушки в 818 г. (ЦТШ, 197, 3610а; ТХЯ, 100, 1782; ЦФЮГ, 972, 7б).
[55] ЦФЮГ, 971, 6а. Индонезийцы переводили китайское Сын Неба как девапутра (Такакусу 1896, с. 136).
[56] Балаш 1932, с. 13. Он отмечает, что эти негры-рабы (в их число он включает, следуя теории Чжан Син-лана, и «курунгских рабов») не занимали важного места в китайской экономике. Справедливо, что курчавые малайцы (если это были они) в роли домашних слуг были, видимо, довольно обычным явлением. Что же касается «рабов занджи», то большинство из них явились диковинами какого-то одного десятка лет.
[57] Мукерджи 1957, с. 133.
[58] Об острове Занзибар, который во времена Сун назывался Страна Курунг Занджи (в современном стандартном произношении — куньлунь цзэнци го), т.е. негритянская (занджи) страна Курунг (Южных морей), см.: Чжан Син-лан 1929, с. 97. См. также: Гудрич 1931, с. 138-139, где приводятся примеры существования рабов-негров в юаньском Китае и рабов индонезийского происхождения (с островов Зондского архипелага) в минском Китае.
[59] Мэтью 1956, с. 52. В Могадишо (бывшее Итальянское Сомали) и в Казерве (бывший протекторат Занзибар).
[60] ТШ, 34б, 3736в; Пельо 1904, с. 349. Очевидно, у западного побережья полуострова Малакка. Профессор П. Уэтли, как он сообщил мне в личном письме от 19 октября 1959 г., допускает связи с Конко- или Кокко-нагара Птолемея, находившемся где-то в этом районе.
[61] Существует несколько написаний этого слова. Другой вариант — цзяоляо. Древнее произношение — соответственно *dz’iäu-ngieu и *dz’iäu-lieu. Ср. цзяонао (*tsiäu-njau) или цзяоляо (*tsiäu-lieu) «птичка-королёк». Корень слова явно означает «маленькое существо». См.: ЦТ, 7, 104-105, где также приводятся слова Конфуция из «Го юй» («Лу юй»).
[62] ЦТ, 7, 105а. Сводку сведений о пигмеях в китайской истории см.: Вада 1947. В ЮЯЦЦ (10, 80) рассказывается о танском коллекционере, у которого был мумифицированный карлик всего в три чи ростом, которого считали «человеком-корольком».
[63] ТД, 187, 1002б.
[64] < В английском тексте стихотворение Бо Цзюй-и «Люди округа Даочжоу» приведено в переводе > Уэйли 1941, с. 168.
[65] ТШ, 194, 4083в.
[66] Пельо 1904, с. 321, 325. Срибоза = Шрибходжа = Шривиджайа. С конца IX в. арабские путешественники на Восток упоминают о стране Сербоза и Забедж; у китайцев эта страна называлась *Sâm-b’iuət-dz’iei. Это и был «Золотой Остров» индийцев (Уэтли 1961а, с. 177-183).
[67] ЦФЮГ, 971, 6а. О стране пигмеев (Чжужу го) далеко к югу от Японии есть упоминание, относящееся к III в. См.: «Вэй чжи», цитированное в ТПЮЛ, 378, 4а.
[68] ТХЯ, 99, 1775; ЦФЮГ, 971, 5б. Паломник Сюань-цзан описывал Самарканд как настоящий рай. См.: ДТСЮЦ, 1.
[69] См. краткое изложение в ТД (193, 1042а), основанное главным образом на «Вэй люэ». Ср.: ТПЮЛ, 368, 4а.
[70] Этот рассказ (очевидно, греческого происхождения) впервые появляется в Китае в III в. (Нидэм 1959, с. 505). О приведённой здесь версии см.: ТД (193, 1042а), где цитируется «Туцзюэ бэньмо цзи». < Проникновение этого античного мифа в глубины Азиатского материка нашло отражение не только в литературной традиции, но и в памятниках декоративно-прикладного искусства: воины-пигмеи, сражающиеся с ог-
(383/384)
ромными птицами — орлами (?) и журавлями (?), изображены в вышивке на шерстяных тканях, найденных в одном из курганов могильника Ноин-ула в Северной Монголии. См.: Тревер 1940, с. 145-147, табл. 43, 44. >
[71] ТД, 193, 1041в. Сводку этих рассказов и античные аналогии им см.: Xирт 1885, с. 202-204. Рассказ о пигмеях и журавлях слился с рассказом о девушке-лебеде в его дуньхуанской версии. См.: Уэйли 1960, с. 154.
[72] Ян 1952, с. 519-520.
[73] Так было интерпретировано китайское *Niei-niet--si.
[74] Дрейк 1943, с. 7; ТШ, 221б, 4155б.
[75] Иноземцы, занимавшие военные посты на танской службе, могли и не жить во дворце, хотя некоторые из них были офицерами императорских телохранителей и пребывали у Ворот Чёрного Воина (ТЛД, 5, 12а).
[76] Ян 1952, с. 510.
[77] Груссэ 1932, с. 16; из тюркской надписи на севере — в Кошо Цайдаме.
[78] ЧЕЦЦ в ТДЦШ, 1, 52б.
[79] В начале VII в. (ТШ, 222б, 4159в). О преданиях об альбиносах в Индокитае, известных также и греческим географам, см.: Уэтли 1961а, с. 158-159.
[80] ЦТШ, 16, 3116г.
[81] Рейшауэр 1955а, с. 45.
[82] ЦТШ, 16, 3116г.
[83] ЦТШ, 19а, 3135а. Чжан И-чао, императорский наместник в Шаччжоу (Дуньхуан), прислал их вместе с четырьмя соколами и двумя лошадьми к празднеству Янь-цин (возможно, ко дню рождения императора). Это было в 866 г. В следующем году указ положил конец представлению женщин в качестве подношения как к этому празднеству, так и к празднеству Дуань-у (ТШ, 9, 3655а).
[84] ЦФЮГ, 971, 3б; Чэнь Юань 1928, с. 63-64. < «Великий Муша» (согд. Моčк), манихейский иерарх, вряд ли был направлен к танскому двору как «подношение». Правитель Чаганиана, одного из владений в составе Тохаристана, мог отправить его «в качестве посла и проповедника учения» (*Беленицкий 1954, с. 44-45). >
[85] Пельо 1923, с. 278-279. По поводу Ван Сюань-цэ и других танских путешественников см.: У Лянь-дэ 1933.
[86] По вопросу о названии этого растворителя, которое по-китайски дается как *p’uân-’ď’a «обрядовая вода» (по П. Пельо) и *b’uân-d’â-k’ia «вода», см.: Пельо 1912, с. 376-377. Дж. Нидэм справедливо считает эти сведения одним из самых ранних упоминаний о природной кислоте, вероятнее всего серной (Нидэм 1954, с. 212).
[87] ЮЯЦЦ, 7, 57; ТХЯ, 82, 1522. В ЮЯЦЦ приводится его рассказ ещё об одном чудодейственном индийском снадобье (ср.: Уэйли 1952, с. 95-96).
[88] ЦХЛ в ТДЦШ, 3, 15а.
[89] ЦФЮГ, 972, 10б.
[90] ТХЯ, 33, 609-610. Более детально о включении иноземных оркестров в состав танского придворного музыкального персонала см.: Кисибэ 1948.
[91] Ван Цзянь. Лянчжоу син («Песня о Лянчжоу»). — ЦюТШ, хань 5, цэ 5, 21а. Название «горная птица» обычно употреблялось по отношению к фазанам (Syrmaticus reevesii).
[92] Цзяо фан.
[93] Один из них, «правый», обычно располагался в Гуанцзэ-фан, другой, «левый», — в Яньчжэн-фан. Существовали также два квартала в Лояне, оба — в Минъи-фан (ЦФЦ в ТДЦШ, 8, 80а).
(384/385)
[94] Ван И-тун (1953, с. 328) считает, что «певчих девушек» всех рангов по положению можно «сравнить с рабами».
[95] Как это было в 714 г. (ТШ, 5, 3644б).
[96] ЦФЦ в ТДЦШ, 8, 80а-90а. См.: Бакстер 1953, с. 119-120.
[97] Чужеземный репертуар придворных музыкантов раннетанского времени был, по существу, таким же, как и при Суй. К нему только прибавилась музыка Гаочана (Ходжо-Турфанский оазис).
[98] В Китае в этот период Бухару именовали древним парфянским династийным именем Арсак, сокращённым до «Ань», которое стало для китайцев названием страны.
[99] «Квартал Обучения» VII в. был уменьшен;«Грушевый сад» VIII в. был уничтожен, хотя его функции продолжало сохранять, пусть даже в уменьшенном масштабе, учреждение, которое именовалось «Двор музыки небожителей» (Сяньшао-юань) — изящным названием с архаическим, религиозным и даосским подтекстами.
[100] Всё, о чем говорится в этом абзаце, собрал и проанализировал С. Кисибэ (1952, с. 78-86), который сводит западные влияния в китайской музыке к трем видам: 1) древнеиранское, центром которого был Хотан; 2) тохарское (но не иранское) с центром в Куче; 3) согдийское с центром в Самарканде.
[101] ТХЯ, 33, 611.
[102] Сян 1933, с. 56; Кун 1934, с. 44-46; и особенно Пань 1958 — более новое исследование.
[103] Сян 1933, с. 58-59.
[104] Цзегу. Но цзе «валух» является также и названием одного северного племени, которое, можно допустить, было как-то связано с происхождением этого барабана. Он был широко известен в Туркестане и в Индии, но попал в Китай из Кучи. < В сочинении Нань Чжо «Сведения о барабанах цзегу» [ЦГЛ — «Цзегу лу», середина IX в.] прямо говорится: «Цзегу происходят от внешних [по отношению к Китаю] племён. Берут [за образец] барабаны западных варваров цзе, поэтому и называются цзегу», т.е. «барабаны племени цзе» (ЦГЛ в ТДЦШ). Вряд ли следует, как это делает Э. Шефер, отдавать предпочтение буквальному переводу «барабан валуха» или «бараний барабан», поскольку в данном случае, несомненно, имеется в виду название племени. >
[105] Кун 1934, с. 62-66. Описание его современных потомков см.: Харих — Шнайдер 1954, с. 4.
[106] Сян 1933, с. 58.
[107] Там же; Кун 1934, с. 51-52.
[108] Гу-цуй. «Трёхструнная хуская скрипка» (хуцинь), которая была в употреблении среди тюрок шато, могла распространиться в Китае в это же время (Эберхард 1948, с. 55).
[109] Кун 1934, с. 30-31.
[110] Там же, с. 75-79.
[111] Как часть японской ритуальной музыки, которая собирательно называлась гагаку «придворная музыка» или (если под неё танцевали) бугаку «музыка танцев». Она включает древние японские песни и танцы (утамай), танскую музыку (тогаку), старинную корейскую музыку (комагаку), японские народные песни в переложении на китайскую оркестровку (саибара) и китайские и китайско-японские стихи, исполнявшиеся как песни под аккомпанемент инструментов (роэи). Я здесь касаюсь только раздела тогаку (Харих — Шнайдер 1954, с. 1).
[112] Нерасчленённая разновидность с подвижными кобылками, называвшаяся чжэн (по-японски кото).
[113] Xарих — Шнайдер 1954, с. 3-5.
[114] Чаще это название произносят на японский лад: Карёбин.
[115] Такакусу 1928, с. 27-28; Демьевиль 1925, с. 223-224.
(385/386)
[116] Харих — Шнайдер 1954, с. 4.
[117] По П. Демьевилю, эта музыка должна быть по происхождению камбоджийской — музыкой, привезенной в Китай вместе с балетом после китайского завоевания Тямпы в 605 г. Но китайцы не интересовались камбоджийской музыкой (равно как и музыкой Тяма, очевидно), и поэтому они заново поставили этот танец под музыку более «чистого» индийского стиля, как его тогда представляли в Китае (Демьевиль 1925, с. 223-224).
[118] Там же, с. 226; Демьевиль 1929, с. 150-157, табл. 16, рис. 1, где воспроизведен костюм танцора, исполняющего роль Калавинки.
[119] Древнее *puât-d’əu или *b’wat-d’əu. Д. Такакусу (1928, с. 27-28) полагал, что это транскрипция имени ведического царя Педу и что этот танцор изображал убивающую змей лошадь этого царя. Сян Да (Сян 1933, с. 65) относится к такому объяснению скептически и считает, что Ван Го-вэй был, вероятно, прав, возводя это название к Бадоу — наименованию страны в Центральной Азии.
[120] Харих — Шнайдер 1954, с. 5; Д. Такакусу полагал, что она также попала в Китай через Тямпу, как это действительно было со многими «индийскими» танцами и музыкой.
[121] Такакусу 1928, с. 27-28; Харих — Шнайдер 1954, с. 4-5.
[122] По ху ци хань.
[123] Сян 1933, с. 65-69. В японском варианте они были одеты в соломенные плащи.
[124] Сань юэ. Я считаю, что человек с «гибкими членами» (цзэ чжи), посланный тохаристанским ябгу в 719 г. в Чанъань, был акробатом (см.: ТХЯ, 99, 1773).
[125] Кун 1934, с. 59-62. Пример с пятью индийцами, искусными в музыке, магии, ходьбе по канату и нанесении себе мнимых увечий (они прибыли в Чанъань в 646 г.), см.: С. Леви 1900, с. 327. Ср.: Уэйли 1952, с. 90; Уэйли 1956, с. 125.
[126] ЧЕЦЦ, 3, 34.
[127] «Указ, запрещающий показ мнимых видений» в ЦТВ, 12, 1а.
[128] Лауфер 1923, с. 38-39.
[129] С. Кисибэ (1952, с. 68-72) собрал имена тридцати одного западного музыканта в танской империи; примеры, которые я привёл, все из его списка.
[130] ЧЕЦЦ (ТДЦШ, 1), 51б-52а.
[131] Кисибэ 1952, с. 74. Страны, из которых происходят другие западные музыканты, могут быть определены по их китайским именам, образованным от названия их стран. Среди таких стран, поставлявших музыку и музыкантов в Тан, но не перечисленных среди официально признанных при дворе групп, были Маймург (Ми), Кеш (Ши), Кабудан, Чач (Ши), Мерв (? My), Кушания (Хэ), Хотан и Кумед (Кисибэ 1952, с. 86). < Следует отметить, что далеко не все, носившие фамилию Цао, должны быть выходцами из Кабудана: ср. деятеля III в. до н.э. Цао Шэня или представителей фамилии Цао, правивших государством Вэй в III в. н.э. То же можно сказать и о фамилии Бо: совсем не значит, что все, кто её носил, обязательно были по происхождению кучинцами (см. примеч. 136). >
[132] Хэн цюй. Но в танскую эпоху она уже называлась ди — название, первоначально прилагавшееся к вертикальной флейте.
[133] ГШП в ТДЦШ, 4, 63б.
[134] Ли Хэ. Лун е инь < «Ночная песнь дракона» >. — ЛЧЦГШ, вай цзи, 14а.
[135] ЛМЧДЦ в ТДЦШ, 10, 11а.
[136] Кучинцы, переселявшиеся в Китай, обычно получали фамилию Бо — «белый», которая служила также именем, обозначавшим кучинских
(386/387)
владетелей. Высказывалось предположение, что само название страны Куча (Kutsi) происходит от индоевропейского слова, означающего «белый» (Бейли 1937, с. 900-901).
[137] «Чунь ин чжуань»; Сян 1933, с. 57. Стихотворение Юань Чжэня «Фа цюй» (ЮШЧЦЦ, 24, 56), отрывок из которого был переведён в гл. I (см. с. 48), примеч. 173.
[138] ЦФЮГ, 971, 95; ТШ, 221б, 4155а.
[139] Сян 1933,с.59.
[141] Сян 1933, с. 60-61. Этот танец был описан в стихотворении Лю Япь-ши (ЦюТШ, хань 7, цэ 9, 4б), которое перевёл на японский язык Исида Микиносукэ, а затем на французский — М. Хагенауер (Исида Микиносукэ 1932, с. 74). Другое стихотворение на ту же тему, принадлежащее Ли Дуаню, также появилось во французском переводе (Исида Микиносукэ 1932, с. 73).
[142] Отождествление предложено Сян Да (Сян 1933, с. 95). Его написание — Чадж (Chaj). Чач — персидская форма, арабское написание — Шаш (Бартольд 1958, с. 169 < ; *Бартольд 1963, с. 226 >). Однако Э. Шаванн (1903, с. 313) полагал, что китайское название — это передача термина «чакар», названия отборных отрядов таких владений, как Бухара и Самарканд.
[143] Бартольд 1958, с. 171-172 < *Бартольд 1963, с. 227-228 >.
[144] Сян 1933, с. 61-62. Существовал также сольный вариант этого танца и ещё один, очевидно, совсем иной, который исполнялся в сунские времена хором мальчиков.
[145] Бо Цзюй-и (ЦюТШ, хань 7, цэ 5, 23, 8а). У Бо Цзюй-и есть ещё и другое стихотворение об этом же самом танце (ЦюТШ, хань 7, цэ 6, 25, 16а). < В русском переводе стихотворения сохранено его понимание, предложенное Э. Шефером. Однако не исключено, что название, передаваемое им как Чач (по-китайски оно означает «тутовая ветка»), является просто именем исполнительницы. В пользу такого понимания, в частности, свидетельствует то, что Тутовая Ветка (= Певица из Чача) употребляется в качестве параллели для имени Персика Лист, которое носила любимая наложница каллиграфа IV в. Ван Сянь-чжи, — ей приписывается создание одной из знаменитых впоследствии песен. Название горы Янтай (места любовных встреч в одной из древних китайских легенд) в английском тексте дано не как топоним, а в переводе «the Terrace of the Sun» «солнечная терраса». >
[146] «Чжэчжи цзи».
[147] Речь идёт о «расцветании персика» (см.: Ван Лин 1947, с. 164). < Скорее это иносказательное выражение, которое означает, что певица встаёт. О возможностях истолкования, которые связаны с пониманием этих слов как имени Персика Лист, см. примеч. ред. 145 >.
[148] «Ху сюань нюй [цзы]». Была сделана попытка этимологизировать хусюань как Хорезм, но основания для неё ненадёжны.
[149] Из Кумеда в 719 г. (ЦФЮГ, 971, 36); из Кеша дважды в 727 г. (ЦФЮГ, 971, 7б; ТХЯ, 99, 1777); из Маймурга в 729 г. (ЦФЮГ, 971, 8а); из Самарканда в 713 г. (ТХЯ, 99, 1775) и в 727 г. (ЦФЮГ, 971, 7б).
[150] Исида Микиносукэ 1932, с. 71; Сян 1933, с. 63-64; Кун 1934, с. 54-55; ЮФЦЛ в ТДЦШ, 11, 10а. Подробнее о нарядах «казённых» иноземных музыкантов при танском дворе см.: ЦТ, 146, 762в. Существуют стихотворения Бо Цзюй-и и Юань Чжэня о «Западных вертящихся девушках»; имеются французские переводы Хагенауэра (Исида Микиносукэ 1932, с. 68-69) и основанные на них английские переводы (Малер 1959, с. 147-149).
[151] ТШ, 35, 3716в.
(387/388)
[152] ТХЯ, 33, 620. Вэй Гао — правитель, который привел к заключению договора между Тан и Наньчжао в 794 г. и озаботился отправкой этого оркестра в 800 г., — мог быть автором «самого раннего из известных описаний оркестра, которое подразделяется по звучанию инструментов. Для этого времени не существует подобного документа по западной музыке — они появляются много позже, и нет ничего похожего ни для какого другого из оркестров Азии — как это ни странно, даже для китайского» (Твитчет — Кристи 1959, с. 178).
[153] Твитчет — Кристи 4959, с. 176.
[154] Кёдес 1948, с. 179.
[155] ЦТШ, 13, 3105а; ТХЯ, 33, 620; ТХЯ, 100, 1795; ЛБЛИ, а, 4; Твитчет — Кристи 1959, с. 176-179. В ЦТШ (197) эта дата ошибочно приведена как «Чжэнь-юань, 8» (вместо «Чжэнь-юань, 18»). Особым бирманским инструментом была индийская вина — цитра с резонатором из полой тыквы, которая по-китайски называлась «тыквенная цитра». Более простую разновидность бамбуковой вины привёз в Китай сунский император Ян-ди из завоёванной Тямпы, но её сочли слишком грубой для китайского слуха. Более крупные инструменты были богато отделаны росписью. Похоже, что именно такими инструментами и были оснащены бирманские музыканты. См.: Хаяси 1925, с. 444-452; ТХЯ, 33, 620. Бо Цзюй-и в связи с появлением этого оркестра осуждает великодержавное самодовольство по поводу китайского престижа за рубежом: «Музыка Пяо, напрасно ты поднимаешь свой шум. Было бы лучше, если бы государь услышал смиренные слова крестьян». Это слова из стихотворения «Императорский секретарь по поводу появления бирманских Пью при китайском дворе в 802 г.». Английский перевод Артура Уэйли см.: Xарвэй 1925, с. 14-15.
[156] ЦФЮГ, 971, 6а.
[157] ТШ, 222в, 4159г.
[158] ЦТШ, 199б, 3619г; ЦФЮГ, 972, 3б.
[159] Рейшауэр 1955а, с. 82.
[160] ТХЯ, 33, 619.
[162] ЦФЮГ, 972, 7б; ТХЯ, 95, 1709.
[163] «Звук и цвет» подразумевают соответственно музыку и женскую красоту.
[164] ТШ, 220, 4149в; ЦТШ, 199а, 3616г.
|