|
|
|
|
|
Рис. 1. Татарские золотые идолы языческие, подавно добытые, вместе с некоторыми золотыми же тельными украшениями, из древних могил Сибири (Витзен).Открыть Рис. 1 в новом окне |
Рис. 2. Золотые татарские головные украшения, найденные в сибирских могильных холмах (Витзен).Открыть Рис. 2 в новом окне |
Рис. 3. Монеты и золотые украшения, вырытые из древних татарских могил в Сибири (Витзен).Открыть Рис. 3 в новом окне |
Замечательные вещи из сибирских курганов попали не только в руки Витзена. Значительная их часть была приобретена владельцем Тагильских заводов А.Н. Демидовым, который в 1715 г. поднёс их императрице по случаю рождения царевича Петра Петровича. И.И. Голиков [10] в сообщении об этом подношении называет их «богатыми золотыми бугровыми сибирскими вещами».
Вещи эти возбудили живой интерес Петра I, и сибирский губернатор кн. М.П. Гагарин получил от него устный приказ — разыскать и доставить ему подобные старинные вещи.
В «Делах Кабинета Петра Великого» [11] A.А. Спицын обнаружил документ, из которого следует, что уже в январе 1716 г. от Гагарина поступило десять золотых вещей. «В 10 д. генваря 1716 отдано Петру Мошкову принесённых от Государя старинных золотых вещей, которые принёс Баклановский, а те вещи объявил князь Матвей Петрович, а именно:
Две бляхи больших, на них вылиты львы.
Четыре штуки небольших, на них вылиты зверьки.
Две серьги с цепочками.
Два зуба человеческие, вделаны в золото с цепочками».
Декабря 12 дня 1716 г. из Тобольска государю выслано Гагариным пятьдесят шесть «мест» золотых вещей при следующем письме:
«Всемилостивый Государь. Повеление мне Вашего Величества, дабы приискать старых вещей, которые сыскивают в землях древних поклаж, и по тому Величества Вашего повелению колико мог оных сыскать золотых вещей послал ныне до Величества Вашего при сем писме. А о силе, Государь, их и какие вещи и которая какие ваги — то, Великий Государь, ведение приложено при сем писме. Величества Вашего последний раб Матвей Гагарин».
Список вещей («ведение золотым вещам, которые сего 1716 году сысканы в земле древних поклаж, какая которого нумера и какова весу»), присланных Гагариным, извлечён из Дела Кабинета Петра Великого и опубликован А.А. Спицыным. [12]
Всего под 55 номерами в списке Гагарина перечислено 102 предмета, и кроме того, в пятьдесят шестом месте было «мелких золотых вещей 20 штук послано государю царевичу Петру Петровичу, которые сысканы при тех же вышеозначенных вещах».
В 1718 г. Петром I издано два указа. По одному из них редкостные вещи должны были доставляться в Московскую и Петербургскую аптеки. Второй указ касался размера вознаграждения за вырытые из земли предметы.
«За человеческие кости за все, ежели чрезвычайного величества, тысячу рублёв, и за голову пятьсот рублёв.
«За деньги и прочие вещи, кои с подписью, вдвое — чего они стоят. За камни с подписью по рассуждению
«Где кладутца такие вещи, всему делать чертежи, как что найдут». [13]
Преемник Гагарина кн. Черкасский в 1720 г. запрашивал Сенат, покупать ли ему золото, находимое в могилах, на что последовал указ Сената 1721 г. «Куриозные вещи, которыя находятся в Сибири, покупать сибирскому губернатору или кому где надлежит настоящею ценою и, не переплавливая, присылать в Берг- и Мануфактур-коллегию». [14]
Какие вещи были доставлены Черкасским, неизвестно, но Г. Миллер во время своего путешествия по Сибири обнаружил в архиве г. Тары дело 1721 г., № 151, содержавшее «Указ, коликое число всякого золота могильного и других курганных вещей в покупке в казну было и о присылке того золота и вещей в Тобольск; при оном указе отписка о посылке в Тобольск золота Тарским служилым человеком Фёдором Мясниковым». [15]
Из всего, что известно нам о происхождении Сибирской коллекции Петровской кунсткамеры, следует, что она в основном состояла из подношения Демидова, вещей, представленных Гагариным и присланных Черкасским.
В 1726 г. все эти вещи были переданы в Кунсткамеру. Бакмейстер об этом писал, что в 1726 г. в Кунсткамеру поступило от двора «драгоценнейшее собрание из чистого золота вещей, в числе которых находилось 250 вынятых в Сибири из гробов татар, обладавших прежде сею страною. Дабы иметь точное понятие в важности сего прибытка, довольно сказать, что весу всего золота было 74 фунта». [16]
В дальнейшем Сибирская коллекция Кунсткамеры пополнилась всего несколькими вещами, так как массовые раскопки сибирских курганов прекратились. Г.Ф. Миллер во время своей экспедиции в Сибирь (1733-1743), имея поручение Академии собирать древности, приобретать их и самому разрывать курганы, передал Кунсткамере всего несколько предметов, так как в это время почти все курганы были уже раскопаны. По его словам, «никто больше на сей промысел не ходил, потому что все могилы, в коих сокровища найти надежды имели, были уже разрыты».
В своем «изъяснении» Миллер, между прочим, писал: «А хотя я сам не был так щастлив, чтобы найти какие редкости в старинных могилах, однако в бытность мою на Колывано-Воскресенском заводе удалось мне купить некоторые вещи из золота, кои я, потому что они весьма достопамятны, по возвращении моём из Сибири отдал в императорскую Кунсткамеру. Между оными находился человек, на лошади сидящий, нарочито чисто выделанный». [17]
В перечне вещей из старинных могил из степи между Иртышом и Обью, приобретённых Миллером в Сибири, значатся: «...рыцарь на коне, о котором речь была выше, олень и несколько колец и серёг золотых». [18]
Описание вещей Кунсткамеры, в том числе Сибирской коллекции, было впервые опубликовано Академией наук в труде «Musei Imperialis Petropolitani» (vol. II, ch. l, 1741), а затем в «Росписи 1745 г.». [19]
По распоряжению президента Академии наук графа Разумовского для предполагавшегося издания «Monumenta Sibirica» с 1742 г. начали вырезываться на меди изображения различных вещей Кунсткамеры, в том числе и сибирских. В 1750 г. была выпущена в продажу при описании Кунсткамеры часть этих таблиц, задуманное же издание не было осуществлено, так как медные доски погибли во время пожара Кунсткамеры в 1747 г.
В 1859 г. Сибирская коллекция Кунсткамеры поступила в Государственный Эрмитаж, где и хранится в настоящее время. Позднее, в 1894 г. из Академии наук было дополнительно передано несколько вещей той же коллекции.
Хотя описания вещей в «Списке Гагарина», в «Musei Imperialis Petropolitani» и в «Росписи» далеко не всегда вразумительны, но благодаря тому, что имеются данные о весе большинства предметов, а также наличие их изображений на вышеуказанных таблицах в так называемом Академическом Атласе, [20] представляется возможным установить принадлежность к Сибирской коллекции почти всех вещей, хранящихся в настоящее время в Эрмитаже.
Местность, где производились в первой четверти XVIII в. раскопки, по всем данным, была территорией, занимаемой ныне современным северным Казахстаном и Алтайским краем (б. Барнаульский округ), преимущественно территорией между Иртышом и Обью. Последнее, на что уже обращал внимание А.А. Спицын, соответствует известному указанию Демидова, извлечённому из рукописи Геннинга об уральских заводах, о том, что важнейшие места находок могильного золота расположены под 50° северной широты. [21] Имеются, между тем, основания полагать, что «бугрование», т.е. добывание из курганов золотых и серебряных вещей, не ограничивалось территорией Сибири, а выходило и за её пределы — «на места или бугры, где напредь сего имелись Зюнгарские кладбища». Примечательно, что ввиду того, что при этом бугровании «браны были в полон люди и лошади, из коих иныя и до смерти при тех буграх убиваны», позднее, в 1764 г., состоялся указ, «дабы никто под жестоким наказанием в степь для бугрования не ездил». [22] Отсюда вполне вероятно предположение, что бугровщики в первой половине XVIII в. могли проникать в предгорья Алтая, Тарбагатая и Северного Тянь-Шаня.
Каковы были курганы, в которых бугровщики находили вещи Сибирской коллекции, некоторое представление дают сведения, сообщённые Г.Ф. Миллером в его «Исторических замечаниях».
«Около Семипалатинского и Устькаменногорского острогов, где почти вся степь богата голышами, и близ каменистых гор, от которых последний острог получил своё название, могилы либо вымощены сверху, на одинаковом с почвой уровне, голышами или добытыми из скал камнями, либо обставлены в кружок такими же камнями, на фут вышиною, либо (но реже) покрыты кучею таких камней. Иногда видать поставленные стоймя камни вокруг мощёной настилки и кружка, вышиною в 1 или 2 фута, иногда же неподалеку от могил, на восток, стоят отдельные глыбы камня, нередко превышающие рост человеческий. Надписей или изображений на них я никогда не встречал... Там, где местность изобилует камнями, могилы внутри на локоть глубины, а иногда вплоть до покойника, наполнены, в перемежку с землёю, голышами, или каменными глыбами, или плитами... Покойники, от которых уцелели одни только кости, притом сильно истлевшие, лежат на глубине 1-3 локтей, головою всегда на восток, без всякого следа того, чтобы они некогда были положены в особый гроб. Вместо этого довольно часто находили остатки шёлковых и бумажных тканей, в которые они были завёрнуты. По таким же остаткам видно, что народ был очень богат, потому что иногда они состоят из расплющенного на тонкие пластинки чистейшего золота, которого курганщики нередко находили в одном кургане до 1 фунта весом. Другие драгоценности, добытые из этих могил, заключаются в серьгах, в запястьях и кольцах золотых, в искусно отлитых из золота и серебра изображениях животных, и особенно в разных сделанных из серебра, на половину смешанного с медью, конских украшениях, которые не очень дорого продаются в здешних местах. Драгоценные камни встречались редко. Мечи же, стрелы и другие изделия из меди и железа хотя и были находимы часто, но, к великому ущербу исторического знания, не обращали на себя внимания находчиков, так что мне не удалось видеть никаких таких вещей». [23]
Результаты раскопок могил типа, описанного Г.Ф. Миллером, произведённых советскими археологами в течение последних десятилетий в верховьях Иртыша и Оби, а также на Алтае, [24] среди которых, возможно, имеются и разрытые бугровщиками, дают возможность, хотя бы в первом приближении, систематизировать вещи из Сибирской коллекции и оценить её историко-культурное значение.
Сибирская коллекция Петра I состоит исключительно из золотых вещей: пряжек, застёжек, украшений одежды, ожерелий, или так называемых шейных гривн, браслетов, перстней, серёг и других мелких ювелирных изделий, как редкое исключение — из предметов домашнего обихода и украшений конской сбруи.
[1] В.В. Pадлов. 1891, Приложения, стр. 21.
[2] Н.К. Витзен (1641-1717), голландец, юрист и государственный деятель, молодым чиновником в 1664 г. прибыл в Россию с голландским посольством для собирания материалов для своего труда, вышедшего первым изданием в 1692 г.: Noord-en-Oost Tartarye. Ещё до путешествия за границу Петр I находился в переписке с Витзеном. Во время пребывания Петра I в 1697 г. в Голландии Витзен, в доме которого некоторое время жил Пётр, выхлопотал ему разрешение работать на ост-индской верфи в Амстердаме; он же доставил ему учителей моренлавательского искусства и черчения.
[3] В.В. Радлов. 1894, Приложения, стр. 128.
[4] И.И. Толстой и Н.С. Кондаков, 1890, стр. 37; подробнее см.: В.В. Радлов. 1891.
[5] В.В.Радлов. 1888, Приложение «Извлечение из путевого дневника Д.Г. Мессершмидта», стр. 10.
[6] Там же, стр. 18.
[7] По 90 коп. золотник чистого золота, по словам Г.Ф. Миллера, в конце первой четверти XVIII в. продавался в Красноярске и Енисейске (В.В. Радлов. 1894, Приложения, стр. 73). Цена 50 коп. за золотник чистого золота сообщается Гмелиным (там же, стр. 74).
[8] Извлечение из писем Витзена к Г. Куперу в переводе на русский язык см.: В.В. Pадлов. 1894, Приложения, стр. 127-134.
[9] Чрезвычайно интересная коллекция сибирских древностей Витзена известна только по гравюрам, опубликованным в его труде. Из сочинения Гебгарда (I.F. Gеbhаrd. Het Leven van Mr. Nic. Corn. Witsen. Utrecht, 1881-1882) видно, что все собранные Витзеном коллекции по смерти его были распроданы с публичного торга. На запрос Археологической комиссии, не (7/8/9/10/11) поступили ли сибирские древности Витзена в один из голландских местных музеев, директор Нидерландского музея древностей в Лейдене сообщил, что, насколько ему известно, «сибирские древности, упомянутые в Noord-en-Oost Tartarye, не находятся в коллекциях нашего края». (В.В. Радлов. 1894, Приложения, стр. 137).
[10] «1716 г. В один приезд г. Демидова в Петербург родился монарху сын Царевич Петр Петрович, и когда знатные особы при поздравлении Монархини по древнему обычаю подносили приличные дары: то он, пользуясь сим случаем, поднес Ея же Величеству богатыя золотыя бугровыя сибирские вещи и сто тысяч рублей денег» (И.И. Голиков. 1789, ч. IX, стр. 443).
[11] Дела Кабинета Петра Великого, 1716, т. XXX, л. 492.
[12] См.: А.А. Спицын. 1906, стр. 235-240 (Дела Кабинета Петра Великого, 1716, № 26, лл. 274 и 365-368).
[13] Сборник императорского Русского исторического общества, 1873, стр. 372.
[14] Полное собрание законов, т. VI, № 3738. Цит. по: В.В. Pадлов. 1894, стр. 146.
[15] В.В. Pадлов. 1894, Приложения, стр. 146.
[16] Бакмейстер. 1779, стр. 117.
[17] Г.Ф. Миллер. 1764, декабрь; В.В. Радлов 1894, Приложения, стр. 123.
[18] B.B. Pадлов. 1894, стр. 126.
[19] Материалы для истории императорской Академии наук, 1894.
[20] Экземпляр Академического Атласа хранится в архиве Института археологии Академии наук СССР (шифр Р, 1, инв. № 1231). В атласе 32 гравюры, из них 13 таблиц гравюр с воспроизведением вещей Сибирской коллекции.
[21] А.А. Спицин. 1906, стр. 232.
[22] В.В. Pадлов. 1894, Приложения, стр. 73.
[23] Там же, стр. 61.
[24] Детальное описание вещей, найденных при раскопках курганов с каменной наброской в Горном Алтае, дано в работах С.В. Киселёва (1949), С.И. Руденко (1952, 1953 и 1960).
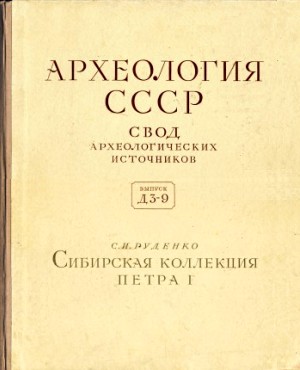 С.И. Руденко
С.И. Руденко

