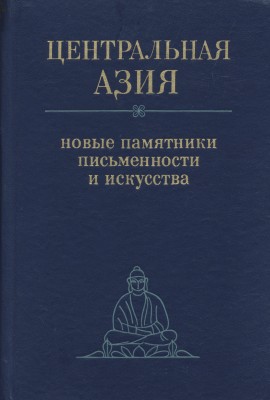 Б.И. Маршак
Б.И. Маршак
Искусство Согда.
Искусство Согда было открыто за последние десятилетия благодаря археологическим раскопкам в Средней Азии. Если полвека тому назад знали только терракотовые статуэтки и оссуарии, то теперь можно судить об архитектуре и монументальной живописи, о торевтике и о резьбе по дереву, о штуке и о художественной керамике.
Много интересных и важных памятников обнаружили в долине Кашкадарьи, в Бухарском оазисе, в землях по среднему течению Зеравшана и в столице Согда — Самарканде. Однако цельное представление о согдийском искусстве, объединяющее добытые в разных местах пусть очень яркие, но разрозненные факты, возникает только в результате многолетних работ в Пенджикенте, где с 1948 г. ежегодно обнаруживаются всё новые и новые произведения.
В этой статье невозможно изложить историю изучения искусства Согда в целом и даже историю изучения искусства Пенджикента, насчитывающую полвека.
Остановлюсь только на важнейших моментах, определивших основные направления исследований. Первые итоги изучения согдийского искусства были подведены тридцать лет назад в известном сборнике «Живопись древнего Пенджикента». [1] Каждая из четырёх статей этого сборника за такой срок не могла не устареть, поскольку у авторов было ещё слишком мало данных для осмысления того нового, что вошло в науку с пенджикентскими росписями. Однако именно тогда были намечены пути, по которым идёт и долго ещё будет идти изучение искусства Согда. В статье А.Ю. Якубовского впервые был поставлен вопрос о социальных функциях этого искусства, обусловленности его основных черт исторической ситуацией. [2] М.М. Дьяконов поставил вопросы о месте Согда во всемирной истории искусств и о связях между изобразительным искусством и эпической поэзией. [3] А.М. Беленицкий тогда же показал, что культовую иконографию Согда можно понять только исходя из истории идеологии всего Востока, ставшего в I тысячелетии н.э. ареной соперничества мировых религий. [4]
За прошедшие тридцать лет трудами прежде всего А.М. Беленицкого, [5] а также Н.В. Дьяконовой, [6] Г. Азарпай [7] и других исследователей были решены многие конкретные вопросы. Поэтому сейчас настало время снова вернуться к общим
(233/234)
проблемам и попытаться охарактеризовать искусство Согда как некое целое, обладающее собственной неповторимой ценностью, причём сейчас ясно, что неповторимая ценность этого искусства не в том, что его темы и мотивы были чужды остальному миру и всегда зарождались на местной почве — это было бы заведомо ложным утверждением, а в том, что оригинальное художественное осмысление всех этих тем и мотивов обусловлено неповторимостью исторической ситуации во времена созревания и расцвета согдийского искусства.
Однако в наших знаниях об исторической ситуации и о развитии самого искусства есть большие пробелы, из которых наиболее затрудняют исследователя два. Во-первых, только в раннем средневековье, причём в основном благодаря Пенджикенту, можно говорить о согдийском искусстве в контексте жизни согдийского общества, тогда как более ранний период остаётся не изученным ни в историческом, ни в художественном отношении. Памятники есть, но они разрознены и неравноценны по своему значению, а главное, у них слишком неопределённые даты, чтобы судить об эволюции. Поэтому древние памятники мы можем рассматривать не сами по себе, а только в связи с вопросом о том, с чего началось раннесредневековое искусство.
Второй пробел относится уже непосредственно к эпохе раннего средневековья — V-VIII вв. Памятников этого периода много, они достаточно точно датируются, мы можем изучать их в связи с теми историческими и историко-культурными данными, которые дают археология и письменные источники. Однако трудности связаны с весьма односторонним характером письменных источников. [8] Мы почти совсем не знаем иной литературы согдийцев, кроме переводной, и поэтому должны судить обо всей идейной жизни по изобразительному искусству. Если обычно искусствовед может привлечь широкий общекультурный фон, цитируя современных авторов и изучая по совокупности источников идейную жизнь общества, то в случае с Согдом мы вынуждены непосредственно сопоставлять произведения искусства, замещающие для нас всю совокупность духовной культуры, с данными по социальной и политической истории, с памятниками материальной культуры. Только такое сопоставление помогает внести в исследование историзм, поэтому оно совершенно необходимо, но, прибегая к нему, нельзя забывать, что оно приводит к огрубляющим действительность упрощениям. К сожалению, такие упрощения пока неизбежны, если только не будут найдены новые согдийские литературные тексты и новые письменные свидетельства о местной религии .
Итак, задача обобщающей статьи о согдийском искусстве может быть сформулирована следующим образом: надо показать связь согдийского искусства раннего средневековья с историческими судьбами согдийцев, показать через памятники искусства существенные особенности согдийской культуры и её место в культуре континента Евразии. Я,
(234/235)
естественно, не могу сейчас подробно обосновать каждое положение, речь может идти только о том, чтобы дать общую картину, увидеть, каким представляется явление в целом, и тем самым наметить программу работ по проверке и уточнению этой картины. К такой постановке вопроса меня подвели беседы с В.Г. Лукониным. Он в течение многих лет участвовал в пенджикентских раскопках и всегда интересовался культурой Согда. Цельная и увлекательная луконинская концепция искусства древнего (в том числе и сасанидского) Ирана [9] стала образцом, с которым необходимо на том же уровне обобщенности сопоставить искусство соседних стран.
Надо учесть, однако, что Согд и всю Среднюю Азию мы знаем хуже, чем Иран. До сих пор было принято считать, что после расцвета античной культуры в этом регионе начался долгий разрушительный кризис рабовладельческой формации. Сейчас очевидно, что каждая из среднеазиатских стран неоднократно и несинхронно с другими переживала более или менее глубокие кризисы, вызванные конкретными событиями её истории. Специфика Согда в том, что, несмотря на неоднократные нашествия, его не смогли интегрировать соседние страны, а в нём самом так и не сложилось сильное государство, долго сохранялись общинные традиции. При этом, однако, Согд развивался: он от столетия к столетию становился богаче, а его культура в конце концов достигла весьма высокого уровня. История Согда, пожалуй, даёт столь же яркий пример «неимперского пути» эволюции на Среднем Востоке, как Иран можно назвать классическим примером имперского варианта эволюции в этом регионе.
Сейчас очень немногое можно сказать об истоках согдийского искусства. Малое искусство первых веков н.э. в отличие от терракот и керамики более позднего периода не позволяет судить о большом монументальном искусстве, памятников же этого монументального искусства мы совсем не знаем, хотя такие памятники открыты в соседних Хорезме и Бактрии — Тохаристане. Штампованные согдийские терракоты этого времени довольно примитивны в художественном отношении, формы керамических сосудов просты, декор их скуден. Время максимального упрощения — III в. В IV в. происходит вторжение в Согд кочевников, засвидетельствованных под именем сюнну в китайских источниках, что, видимо, соответствовало согдийскому хун. [10] К искусству этих кочевников можно отнести замечательные батальные сцены на роговых пластинах из Курган-тепе в Центральном Согде. [11]
В целом, относить ли пластины к I в. до н.э., как это делает Г.А. Пугаченкова, или к III-IV вв. н.э., как это представляется мне, они, во всяком случае, отражают не местную, а центральноазиатскую кочевническую художественную традицию. Об этой традиции свидетельствуют не только реалии (их могли знать осёдлые соседи кочевников), но и манера. Так, кони показаны неестественно поджарыми,
(235/236)
что характерно для искусства кочевников ещё со времен Пазырыка (вспомним, например, всадника войлочного ковра). [12]
После этих хунов, которых без достаточных оснований отождествляют с хионитами, в Согде наблюдается быстрый рост поселений и городов на протяжении IV-VII вв., который хорошо прослежен археологами, растёт и заселённость территории огромного древнего городища Афрасиаб. [13]
По мере этого роста появляется всё больше свидетельств успехов согдийских мастеров и, наконец, в VII — начале VIII в. наблюдается расцвет всех отраслей хозяйства и искусства этой страны.
В Тали-Барзу, в слое III, найдена художественная керамика настолько эллинистического облика, что не только нашедший её Г.В. Григорьев; но и античный сектор Эрмитажа на специальном заседании отнесли её к периоду эллинизма. Особенно характерны в этом отношении прекрасно моделированные терракотовые головки под ручками сосудов. Керамика датируется бесспорно IV в. н.э., [14] именно в это позднее время ярко проявляются в искусстве Согда элементы эллинистического происхождения. Теперь мы знаем по Тахти Сангину, что в Бактрии — Тохаристане в храмах образцы греческого искусства хранились вплоть до кушанского времени, когда часть их пришла в негодность и была положена в специальные хранилища вышедших из употребления предметов. [15] Во время смут позднекушанского времени такие вещи могли попасть в Согд и послужить образцом для местных подражателей.
В беседе с автором статьи такой знаток эллинизма, как П. Бернар, сказал, что греческие элементы в Согде даже в VI в. н.э., например на глиняном фризе из Пенджикента, [16] переданы с большим пониманием реалистического духа греческого искусства, чем греческие элементы в искусстве кушанской Бактрии, гораздо более ориентализированные.
Стремление активно овладеть плодами развития мирового искусства предшествующих веков согдийцы IV-V вв. проявили и в архитектуре. Если их оборонительное зодчество (его специально изучает Г.Л. Семёнов) связано с древневосточной традицией, [17] с которой оно продолжало контактировать и в эпоху эллинизма (отмечу сходство стен Самарканда III в. до н.э. и мидийских крепостей), [18] то, строя храмы, они проявляли также знание парфянской и греко-бактрийской архитектуры. Возведённый в IV в. н.э. храм Еркургана только на третьем строительном этапе приобрёл трёхчастную целлу, похожую на греко-бактрийские. [19] Архитектор V в. н.э. не просто следовал по стопам своего непосредственного учителя, он мог обратиться к древним отдалённым образцам, чтобы решить вставшие перед ним задачи.
При этом, как и в дальнейшем, можно говорить не о пассивном заимствовании, а именно об осознанном овладении достижениями своих далёких предшественников или других народов. Ни на одном из среднеазиатских городищ нет храмов, скопированных с храмов другого центра.
(236/237)
К древневосточной и обновленной эллинистической традициям, существовавшим рядом, но пока без заметного взаимодействия с кочевнической центральноазиатской традицией, в V в. прибавляется ещё один компонент — воздействие посткушанского Тохаристана. На этом моменте я сейчас не буду останавливаться подробно, поскольку ему был посвящён специальный доклад на сессии по Бактрии — Тохаристану, тезисы которого опубликованы. [20]
Замечу только, что во II храме Пенджикента с V-VI вв., а затем с VI в. в жилых домах Пенджикента и Афрасиаба появляются росписи со сценами поклонения божеству и иными ритуальными сюжетами, в которых изображения богов и особенно донаторов близки к тохаристанским. В Тохаристане такая тематика, по-видимому, преобладала, во всяком случае, никакой иной живописи там не найдено. То же самое можно сказать и о памятниках Южного Согда. В Согде тоже встречаются залы VI в. с только культовыми изображениями, но в том же, VI в. появляются наряду с ними и иллюстрации к мифам в обоих храмах Пенджикента.
В V-VI вв. согдийцы разрабатывают свою культовую иконографию. И снова они быстро решают задачу, смело используя различные традиции, видоизменяя их и, как это происходило несколько ранее в архитектуре, комбинируя элементы различного происхождения.
У согдийцев, как и у других иранских народов, долго не было отчётливых представлений о том, как могут выглядеть боги, и соответственно не было устойчивой культовой иконографии. Но в Согд через многочисленных купцов и колонистов, не терявших связи с метрополией (в начале IV в. жившая в Самарканде мать переписывалась с дочерью, поселившейся в Дуньхуане на западе Китая [21]), хлынули чужеземные верования в виде мировых религий буддизма, манихейства, христианства. Недаром именно к этим религиям относится почти вся литература согдийцев диаспоры. Все три религии обладали развитым культовым искусством — мощным оружием миссионеров. В колониях многие согдийцы охотно прислушивались к миссионерам, там перемена веры сулила сближение с партнёрами другого происхождения. При этом, однако, переходя в буддизм или манихейство, они могли не отказываться от культов собственных богов, занявших очень скромное место в новой для них системе идей, но сохранивших свою социально важную роль покровителей отдельных семей, оазисов, селений. Однако теперь пришлось этих богов вводить в чуждую для них религию и рисовать их, следуя правилам её иконографии.
Иноземные религии проникали и в согдийскую метрополию, в том числе и в Пенджикент, где, судя по эпиграфике, жили буддисты и христиане, но в метрополии местная религия, тесно связанная с исконными традициями общин и кровнородственных групп, никогда не исчезала и в конце концов победила. В 630 г. буддисты в Самарканде были ничтожным угнетенным меньшинством, а в 3-й четверти VII в. согдийский царь принимал от иностранных послов заверения в их
(237/238)
осведомленности о богах и письменности Самарканда, что означало, как считает В.А. Лившиц, [22] какую-то форму международного признания местной веры. При этом согдийцы не отказались от зримого облика своих богов, который они создали, контактируя с чужими религиями. Самобытность и стойкость собственной культурной традиции сказалась не в сплошном отрицании чужого, а в способности освоить чужие формы, обогатив ими свою культуру, сохраняя верность предкам в том, что имело решающее значение.
О конкретных путях сложения культовой иконографии уже приходилось докладывать и писать, [23] поэтому не буду останавливаться на деталях.
В целом согдийские боги не повторяют иконографию богов кушанского Тохаристана, хотя в Согде Нана также едет на льве, а подобный Шиве трёхликий Вешпаркар похож на Шиву монет Васудевы, имя которого в монетной легенде обозначено Виш. Однако Нана стала четверорукой, Вешпаркар держит в одной из рук рог, и в их облике, как и в облике других богов, прежде всего подчёркивается их царственность.
С конца IV в. сасанидская мода в одежде и в манере её изображать, признаки сасанидской царской иконографии в культовых композициях широко распространяются на востоке, доходя уже в 420-х годах до Китая (Дуньхуан). Толчком для этого послужили восточные завоевания Ирана и создание кушано-сасанидского наместничества. [24] При этом если у кушан индийские боги одеты по-индийски, греческие по-гречески, а местные — в греческие или тохаристанские одеяния, то с V в. начинается смешение признаков разного происхождения. В Тохаристане в Дильберджине есть роспись V-VI вв. с богиней, уподоблённой одновременно греческой Афине и ... сасанидскому государю. [25] Эта богиня есть и на терракотовых образках VI в., найденных в Самарканде и Пенджикенте, в самом центре Согда. [26]
В Согде чисто индийский или чисто греческий иконографический тип сохраняется только как редкое исключение. Напротив, здесь произошло полное смешение разнородных признаков: бог с кифарой Аполлона сидит как сасанидский царь на троне с головами слонов, Вешпаркар одет по-согдийски, длиннобородый Азрва (Зрван) сидит в индийской позе и т.д. [27] Индийские и тем более греческие элементы иконографии в Согде уже не означали «национальность» богов, а просто были отличительными признаками небожителей, демонов, сказочных персонажей.
В VI в. новая иконография перестает быть достоянием храмов. Путём штамповки из глины с последующим обжигом, а иногда и раскраской, т.е. самым простым способом, изготовляли множество образков с изображениями богов в храмовых нишах. [28] Каждый горожанин мог иметь у себя такую дешевую репродукцию почитаемой статуи. На образках есть персонажи и композиции, известные по росписям, тоже воспроизводящим ниши со скульптурой. [29] В VI в. в домах более зажиточных пенджикентцев и самаркандцев появилось много
(238/239)
таких ниш: и реальных с росписью внутри, и нарисованных на поверхности стены зала. Всё это показывает перемену форм семейного культа: у частных граждан появляется какое-то подобие того, что ранее было только в храмах. В VII-VIII вв. образки исчезают, хотя по настенным росписям домов видно, что никто не отменял культов соответствующих богов. Эволюция домовой архитектуры показывает, что благосостояние рядовых горожан в это время не уменьшилось, а увеличилось. Можно думать, что простые люди города не отказались от икон, а перешли на более дорогие, чем штампованные образки, живописные иконы на дереве или ткани, подобные восточнотуркестанским иконам того времени.
На протяжении VII в. все виды художественного творчества, ранее довольно разобщённые, начинают тесно взаимодействовать, причём видно, как они один за другим выходят из относительной изоляции. Серебряная посуда Согда VI в. несравненно примитивнее, чем торевтика Тохаристана, она повторяет простейшие образцы парфянского серебра первых веков н.э. А в VII в. согдийские торевты делают уже подлинные шедевры, связанные не только с местной, но и с сасанидской, тюркской, китайской традициями. [30] В керамике в конце VII в. распространяется совершенно новый стиль, связанный с подражанием серебряной посуде богачей. Дома частных граждан с их сложными деревянными перекрытиями, богато украшенными резьбой, и не менее сложными и изощренными сводчатыми перекрытиями превращаются в это столетие в маленькие дворцы.
Рядовые жители города и, во всяком случае, вся зажиточная часть городского населения, составляющая в Пенджикенте более чем треть домовладельцев, не стремились противопоставить свою, говоря современным языком, «контркультуру» культуре царей и храмов, напротив, они хотели по мере своих сил освоить достижения этой культуры. Такая тенденция характерна для верхов города и землевладельцев, а не массы крестьянства, и всё же при всей своей исторической ограниченности она весьма примечательна. В Согде, где не было сильной царской власти, не было, как справедливо подчёркивает А.М. Беленицкий, и государственной религии, способной подавить инакомыслящих и унифицировать сознание своих адептов. [31] Общинные традиции, наличие какой-то формы городской автономии давали гражданам сознание своей значимости. [32]
Говоря о культуре царей и храмов, я имею в виду не столько, сам Согд, где не было принципиальной разницы между царьками и их знатными подданными и где храмы были храмами городской общины, сколько соседние монархии, и прежде всего грандиозный сасанидский Иран с его официальной религией и официальным искусством, так блестяще исследованным В.Г. Лукониным. [33]
Согдийцы были связаны почти со всем цивилизованным миром благодаря своей важной роли в международной торговле шёлком и в политической жизни тюркских степных го-
(239/240)
сударств VI-VIII вв. Их искусство показывает, что они знали достижения разных стран и охотно перенимали те или иные темы, мотивы, орнаменты и т.д.
Но своеобразие согдийского общества, своеобразие задач согдийского искусства создавало из местных и заимствованных элементов нечто цельное и глубоко оригинальное по общему замыслу. Справедливость этого тезиса подтверждает каждый парадный зал VII-VIII вв. Таких залов открыто много, и ни один из них не повторяет другой. Выбирая сюжеты, каждый заказчик стремился выразить свои идеалы, показать своё место в мире. Заказчик и художники вырабатывали сложную программу росписей и резьбы по дереву, исходили из конкретных индивидуализированных задач, обычно соблюдая при этом некоторые общие принципы.
Почти всегда в деревянной резьбе перекрытий появляется целый набор изображений богов, в том числе божеств светил. [34] Работы последних лет показали, что согдийцы выполняли из дерева даже купола, [35] у многих народов символизировавшие полусферу неба. Но основное место божества в зале — это реальная или нарисованная арочная ниша напротив входа. Этой нишей — выходом из человеческого мира в мир богов — завершался извилистый путь через сводчатые помещения с низкими проходами. Как правило, фигуры богов в нише были огромны. Их масштаб ещё более подчёркивал маленькие фигуры реальных людей, молящихся богам. Иногда архитекторы прибегали даже к специальным приёмам, основанным на перспективных эффектах, чтобы подчеркнуть грандиозность защищающих дом богов.
Каждая семья имела своих богов-покровителей, причём у горожан и у династий княжеств нередко оказывались одни и те же патроны. Так, бухарские государи, как и некоторые домовладельцы Пенджикента и Самарканда, почитали бога, атрибутом которого был верблюд.
В сценах поклонения божество всегда гораздо больше, чем молящиеся, от которых оно глубоко отлично, однако, судя по китайским источникам, некоторые среднеазиатские государи сидели на зооморфных тронах, подобных нарисованным тронам богов, и уподоблялись своим божественным покровителям. Аналогичное явление засвидетельствовано в Иране: сасанидская царица Шапурдухтак, как показал В.Г. Луконин, изображалась в роли покровительницы рода Сасанидов Анахиты, но, конечно, никто не претендовал на то, чтобы происходить от этой непорочной богини. Поэтому нет никаких оснований заключать, что известный по росписям Пенджикента и Шахристана персонаж, показанный, в частности, в нарисованной арочной нише парадного зала шахристанского дворца, — это «обожествленный предок» уструшанских афшинов. [36] Культ предков засвидетельствован в Средней Азии, но неясно, почему его надо связывать с подобными изображениями. Неужели многочисленные пенджикентские горожане тоже были потомками богов? Надо разобрать, ещё один аргумент: если владелец зала сидел напротив входа на суфе, то он оказывался сидящим спиной к бо-
(240/241)
жеству. Поэтому Н.Н. Негматов полагает, что в Шахристане показан «обожествлённый предок», который прощал своему потомку такую позицию. Надо сказать, что в нескольких пенджикентских домах в подобном случае за спиной сидящего оказалось бы изображение четверорукой богини. Итак, или на выступе суфы не сидели, или это не считалось оскорбительным для божества. Вообще росписи дворцов Согда и
Уструшаны принципиально не отличались от росписей богатых домов города, а локальная специфика Уструшаны, по-моему, в основном стилистическая. В начале средних веков дело шло не к обособлению, а к культурному единству складывающейся таджикской народности. Когда один и тот же персонаж есть в росписях Согда и Уструшаны, нет необходимости выискивать для него сугубо местное объяснение.
С изображениями богов связана ещё одна проблема: были ли согдийцы зороастрийцами? Изображения многочисленных богов, к тому же часто с индийскими атрибутами, по мнению А.М. Беленицкого, свидетельствуют против зороacтpизма. [37] Однако одно дело — сложная религиозно-философская доктрина магов, в которой старым унаследованным от язычества богам отведена очень скромная роль, и другое дело — практика отдельных семей и отдельных общин, которые, отнюдь не стремясь противоречить доктрине, в своей жизни прежде всего заботились о получении поддержки от собственного божественного патрона. Таким путём мне кажется можно примирить нынешние сомнения А.М. Беленицкого с высказанной им в 1954 г. глубокой мыслью о том, что религия Пенджикента — одна из так называемых мировых религий, поскольку «с первых веков н.э. и до арабского завоевания Средняя Азия была ареной [их] весьма усиленной борьбы». [38] При этом особое значение частных культов связано со слабостью государства и отсутствием государственной религии, подобной зороастризму времён Сасанидов, с точки зрения которого согдийцев могли счесть еретиками.
Если рассматривать росписи зала не только как живописную, но и как этическую программу, то росписи этого первого жанра — свидетельство благочестия владельцев и их преданности семейному культу. Человек всегда мал по сравнению со своим богом. В Согде не было изображений богоравного царя сасанидских инвеститурных рельефов и монетных реверсов.
Другие идеи вложены в росписи второго ранга, располагавшиеся на менее почётных местах по сторонам от реальной или нарисованной ниши напротив входа. Это иллюстрации к героическим повествованиям, что особенно характерно для Согда, или героизированные сцены пиров и конной охоты, т.е. благородного образа жизни. Иногда к этому же второму рангу относили второстепенные культовые композиции и сцены с событиями недавней истории. Жёсткого правила здесь не было, и всё определялось предпочтениями владельца дома и, отчасти, художника. Масштаб этих росписей несколько меньше, чем у росписей первого ранга.
(241/242)
Их основная этическая идея — самоотверженная доблесть и благородство. С высокой степенью совершенства передавали согдийские художники самый ритм эпического повествования с его нарочитыми замедлениями и напряжённой динамикой роковых схваток. Энергично проведённые контуры выделяли фигуры. Участки фона давали простор движению. В эпических фризах, переходящих со стены на стену, зритель должен был, переводя взгляд от эпизода к эпизоду, воспринимать образы всех действующих персонажей, быстро и уверенно опознавая каждого из них, с волнением следуя за главным героем по его полному опасностей пути. Для этих росписей характерны контрасты, проявляющиеся и в соседстве бурных и спокойных сцен, и в сопоставлении мощи и уверенности в себе вступающих в бой с мучением и бессилием поверженных. Контрасты видны и в построении отдельных фигур, и в цветовом решении. В образе героя не было ничего инертного, он изображался с тонкой осиной талией, с особо мощными плечами, гибкими подвижными руками, горделивой посадкой головы. Такой подчёркнуто героизированной трактовки нет вне Согда VII-VIII вв. Даже в соседней Уструшане при большей занимательности отдельных эпизодов и большем разнообразии действий персонажей ослабляется героическая напряжённость согдийского искусства. Соответственно и цветовые решения были в обоих центрах принципиально различны. Для Афрасиаба, Варахши, Пенджикента характерны контрастные соотношения красных и жёлтых охр с ультрамариновыми фонами. [39] В сочетаниях цветов нет сложных, трудно поддающихся гармонизации соотношений зелёного с синим и зелёного с жёлтым. Зато в поздних росписях Шахристана мало красного цвета и нет нарочитого избегания зелёного. Мне кажется, что шахристанская живопись нередко более виртуозна, чем пенджикентская, но в ней меньше героического пафоса. [40] После первых открытий в Пенджикенте западные учёные считали живопись Согда локальным вариантом сасанидского искусства. Действительно, в цветовых построениях, в некоторых особенностях композиции и в реалиях есть определённое сходство, но дух искусства этих стран принципиально разный. В искусстве сасанидской империи герой — это прежде всего царствующий государь, которому как бы заранее уготована победа. Достаточно сравнить изображение стройного всадника на мугском щите, изящным движением пальцев управляющего непокорным напряженным конем, с такибостанским всадником, похожим на «гору, сидящую на горе» (я употребляю здесь несколько более поздний поэтический термин), чтобы увидеть всё различие не только художественных, но и жизненных идеалов.
Длинные фризовые ленты с разработанными приёмами передачи героических повествований неизвестны нам до начала VIII в., но появляются они, как Афина из головы Зевса, сразу во всеоружии отработанных приёмов передачи подобных сюжетов. Вероятно, они возникли гораздо раньше, но тогда Согд был беднее и настенные росписи не были
(242/243)
столь популярны. В более скромных масштабах такие сюжеты могли появиться в книжной миниатюре, известна близкая по времени манихейская миниатюра, но для миниатюры не характерны столь развитые фризовые композиции. Возможно, что эпическим росписям предшествовали свитки или расписанные деревянные планки, которые показывали слушателям сказители. В тесно связанной с Согдом Центральной Азии известны и такие планки (в таштыкской культуре III-V вв.), [41] и такой свиток (из находок в Восточном Туркестане). На хранящемся в Индийском музее Западного Берлина свитке сначала идут фигуры божеств, к которым взывал сказитель в начале исполнения, а затем целая серия эпизодов одной легенды. [42]
Росписи третьего ранга известны пока только в Пенджикенте. Это мелкомасштабные фризы и прямоугольные панно, которые в нескольких залах первой половины VIII в. замещают обычные орнаментальные бордюры. Сюда относятся иллюстрации к сказкам и притчам, лирические сценки, фризы с бегущими друг за другом животными, изображения музыкантов и танцоров. Никакого оттенка героики в росписях этого ранга обычно нет. Развлекательные и лирические мотивы здесь присутствуют, но отнюдь не преобладают. Основная этическая тема росписей — практическая мораль, которую иллюстрируют притчи.
Вся программа росписей показывает иерархию этических норм.
Росписи первого ранга учат ритуалу, который делает человека угодным божеству, росписи второго ранга показывают примеры мужества и благородства, росписи третьего ранга учат, как преуспеть в повседневной жизни, и развлекают.
Общий дидактический характер согдийского искусства определил, вероятно, характерную для него сдержанность при передаче эротической тематики, редко встречаются и при этом очень скромно трактованы столь характерные для средневековья рассказы о женском коварстве. [43]
Согдийское искусство воспитывало членов общества, отличавшегося высоким развитием хозяйства и культуры, без централизации и при слабом развитии государственного аппарата. Это искусство отражало вкусы и интересы активного гражданина, а не подданного типичной восточной монархии.
В росписях третьего ранга нет той идеализации, которая характерна для других рангов, в них нет никаких деталей, кроме самых необходимых для передачи содержания, но при этом много живых наблюдений. Если эпические произведения, за исключением Рустамиады и, видимо, Махабхараты, были местного согдийского происхождения (что естественно для эпоса, отражающего историю народа) и поэтому не находят параллелей в сохранившихся текстах, то сказки и притчи, по большей части, хорошо известны по мировому фольклору, по греческому сборнику Эзопа и по индийской Панчатантре, которая в арабском варианте при-
(243/244)
обрела название «Калила и Димна». [44] Рукописи Эзопа иллюстрировались еще в древности, а рукопись «Калилы и Димны» с иллюстрациями упоминается в предисловии Ибн ал-Мукаффы (VIII в.), [45] так что одним из предшественников настенных росписей этого ранга могла быть книжная миниатюра.
В эпоху расцвета согдийские художники никогда не повторяли буквально не только композиций, но и отдельных фигур. В этом проявился их весьма высокий профессионализм, отличающий художников Согда от их современников в Тохаристане и Хорезме, где прекрасные по выполнению произведения одновременны с довольно примитивными. Согдийские художники создавали свои разнообразные произведения с тонким учётом содержательных моментов; чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить Рустама в двух эпизодах, перед началом подвигов и после победы, [46] но при этом они опирались на выучку, позволявшую им комбинировать заученные в юности детали. Эта выучка, без которой невозможно создать сложные композиции, была замечена М.М. Дьяконовым в его статье о пенджикентской живописи. [47] Традиция помогала творчеству. Сочетание традиционности деталей и приемов с обязательной индивидуализацией решения каждой сцены характерно для индивидуального авторского творчества в средневековой поэзии.
Такое яркое явление, как искусство Согда, не могло не оставить след в истории мирового искусства. Для северо-востока Средней Азии можно говорить о прямом переносе согдийских традиций колонистами. Согдийские серебряные сосуды вызывали подражания в тюркских и хазарских степях, они повлияли на искусство кочевых венгров. Даже в торевтике Китая с его изощренным мастерством появились согдийские формы и орнаменты. Прослеживается согдийское воздействие и в искусстве Хорасана VIII-IX вв. [48]
Коснусь вопроса о преемственности между Согдом VIII в. и Саманидским государством IX-X вв., времени окончательного формирования средневековой таджикской народности. Вопросы преемственности в области искусства были рассмотрены в диссертации Д. Абдуллоева, которому удалось проследить дальнейшее развитие многих элементов согдийской художественной традиции. [49] Есть один хороший пример, на котором можно увидеть, что принимали и что отвергали в согдийском наследии мастера X в. Это шёлковая завеса, вероятно принадлежавшая военачальнику Бухтегину, казнённому в 964 г. А.М. Беленицкий показал, что и цветовая гамма, и сочетание слонов и грифонов, и характерные особенности самих грифонов восходят к доисламскому искусству Бухары, основного центра государства Саманидов, напоминая росписи Красного зала Варахши. [50] Но на завесе видно глубокое орнаментальное перерождение фигур животных, которые застывают в полной неподвижности. Исчезли изображения божества и погонщика слона. Если начать читать арабскую надпись, то слоны окажутся вверх ногами. В эпоху ислама, с его враждой к идолопоклонству, элементы старых компози-
(244/245)
ций были лишь патриотическим напоминанием о славном прошлом, но они не должны были возвращать к жизни безвозвратно ушедшую идеологию.
Однако в области светской идеологии преемственность, по-видимому, сохранилась. Основоположник таджикской поэзии Рудаки, когда он писал в стихах «Калилу и Димну», следовал этой арабской версии Панчатантры, но его интерес к ней, вероятно, был связан с теми рассказами из этого сборника, которые поэт слышал от своих согдийских земляков. Народный героический идеал живёт в поэме Фирдоуси, подвиги главного героя которой Рустама когда-то появились на стенах пенджикентского «Синего зала». Какую-то героическую поэму, к сожалению не сохранившуюся, написал Рудаки. [51] Согдийская культура не исчезла бесследно, вместе с культурой Тохаристана и Хорасана она влилась в русло культуры таджиков и персов зрелого средневековья.
Примечания ^
[1] Живопись древнего Пенджикента. М., 1954.
[2] Якубовский А.Ю. Вопросы изучения пенджикентской живописи. — Живопись древнего Пенджикента. М., 1954.
[3] Дьяконов ММ. Росписи Пенджикента и живопись Средней Азии. — Живопись древнего Пенджикента. М., 1954.
[4] Беленицкий A.M. Вопросы идеологии и культов Согда (По материалам пенджикентских храмов). — Живопись древнего Пенджикента. М., 1954.
[5] Беленицкий A.M. Новые памятники искусства древнего Пенджикента. Опыт иконографического истолкования. — Скульптура и живопись древнего Пенджикента. М., 1959; он же. Монументальное искусство Пенджикента. Живопись. Скульптура. М., 1973; Беленицкий A.M., Маршак Б.И. Черты мировоззрения согдийцев VII-VIII вв. в искусстве Пенджикента. — История и культура народов Средней Азии (древность и средние века). М., 1976; Belenizki A.M. Kunst der Sogden. Lpz., 1980; Betenitskii A.M. and Marshak B.I. The
Paintings of Sogdiana. — Azarpay G. Sogdian Painting. Berkeley — Los Angeles — London, 1981.
[7] См. работы Г. Азарпай (Azarpay G.): Sogdian Painting. Berkeley — Los Angeles — London, 1981; Some Iranian Iconographie Formulae in Sogdian Painting. — Iranica Antiqua. XI (1976); Iranian Divinities in Sogdian Painting. — Acta Iranica. Monumentum H.S. Nyberg. I. Leiden, 1975; Nana, the Sumero-Akkadian Goddess of Transoxiana. — JAOS. 1976, vol. 96, 4.
[8] Лившиц В.А. Согдийский язык. Введение. — Основы иранского языкознания. Среднеиранские языки. М., 1981, с. 350-368.
(245/246)
[9] Луконин В.Г. Иран в эпоху первых Сасанидов: Очерки по истории культуры. Л., 1961; он же. Культура сасанидского Ирана. Иран в III-V вв. Очерки по истории культуры. М., 1969; он же. Иран в III веке. Новые материалы и опыт исторической реконструкции. М., 1979; он же. Искусство древнего Ирана. М., 1977; Дандамаев М.А., Луконин В.Г. Культура и экономика древнего Ирана. М., 1980, с.86-103, 259-264.
[10] Enoki К. On the Nationality of the Ephthalites. — MDTB. Tokyo, 1959, №18, C.25; Henning W.B. The Date of the Sogdian Ancient Letters. — BSOAS. 1948, vol.12, №3-4; Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. М.-Л., Т.2, 1950, с. 260-261.
[11] Пугаченкова Г.А. Работы Мианкальской группы. — АО-1982. М., 1984, с. 480-482; она же. Курган-тепе (Согдийско-Кангюйский симбиоз). — Всесоюзная конференция «Советская археология в XI пятилетке» (Тезисы пленарных докладов). М., 1983; Вельская Г. Монологи с археологической конференции. — Знание — сила. 1983, № 11, с. 16-17.
[12] Артамонов М.И. Сокровища саков: Аму-Дарьинский клад. Алтайские курганы. Минусинские бронзы. Сибирское золото. М., 1973, с. 63, рис. 78.
[13] К исторической топографии древнего и средневекового Самарканда. Таш., 1981, с. 142.
[14] Григорьев Г.В. Городище Тали-Барзу. Краткий очерк. — ТОВЭ. Т.2. Л., 1940, с. 92-96, 101, табл. III, 1, 2, рис.66, в; он же. Поселения древнего Согда. — КСИИМК. Вып. 6, 1940, с. 25, 30, рис. 4 г, д; Тереножкин А.И. Согд и Чач. — КСИИМК. Вып. 33, 1950, с. 153, 154, 160, рис.69; Ставиский Б.Я. О датировке ранних слоёв Тали-Барзу. — СА. 1967, № 2, с. 22-28. Ср.: Мандельштам A.M. О некоторых вопросах сложения таджикской народности в Среднеазиатском междуречье. — СА. 1954, т. 20, с. 91; Литвинский Б.А., Седов A.B. Культы и ритуалы кушанской Бактрии. Погребальный обряд. М., 1984, с. 82-84.
[15] Литвинский Б.А., Пичикян И.Р. Тахти-Сангин — Каменное городище (раскопки 1976-1978 гг.). — Культура и искусство древнего Хорезма, М., 1981; они же. Археологические открытия на юге Таджикистана. — ВАН. 1980, № 7; они же. The Temple of the Oxus. — JRAS. 1981, № 2; Зеймаль E.B. Древние монеты Таджикистана. Душ., 1983, с. 32, 44, 47, 149, 176, 177, 184, 186, 197, 211, 226, 294, 295.
[16] Скульптура и живопись древнего Пенджикента. М., 1959, табл. XXVIII-XXXII.
[17] Беленицкий A.M.t Маршак Б.И., Распопова В.И. Раскопки древнего Пенджикента в 1974 г. — APT. Вып. 14 (1974 г.), 1979, с. 258-265; Семёнов Г.Л. Согдийская фортификация и греческая полиоркетика. — Древние культуры Евразии и античная цивилизация. Краткие тезисы докладов научной конференции. Гос.Эрмитаж. Л., 1983.
[18] Chichkina G. Les remparts de Samarcande à l’époque hellénistique. — La fortification et sa place dans l’histoire politique, sociale et culturelle du Monde Grec. Centre de recherches archéologiques du CNRS (t. 3, Communications présentes); Roaf M., Stronach D. Nush-i Jan, 1970. Second Interim Report. — Iran. 1973, vol. VI, C. 130, 138, fig. 1.
[19] Исамиддинов M.X., Сулейманов Р.Х. Еркурган (стратиграфия и периодизация). Таш., 1984, с. 18-19.
[20] Маршак Б.И. Монументальная живопись Согда и Тохаристана в
(246/247)
раннем средневековье. — Бактрия-Тохаристан на древнем и средневековом Востоке. Тезисы докладов. М., 1983.
[21] Reichelt H. Die soghdischen Handschriftenreste des Britischen Museums. II. Heidelberg, 1931, c.1-56; Henning W.B. The Date; Лившиц В.А. Иранские языки народов Средней Азии. — Народы Средней Азии и Казахстана. Т.1. М., 1962.
[22] Альбаум. Л.И. Живопись Афрасиаба. Таш., 1975, с. 54-56 (перевод и комментарии В.А. Лившица).
[23] Маршак Б.И. Индийский компонент в культовой иконографии Согда. — Культурные взаимосвязи народов Средней Азии и Кавказа с окружающим миром в древности и средневековье. Тезисы докладов. М., 1981; Belenitskii A.M. and Marshak B.I. The Paintings of Sogdiana, c. 28-35.
[24] Луконин В.Г. Кушано-сасанидские монеты. — ЭВ. Вып.18. Л., 1967; он же. Завоевания Сасанидов на Востоке и проблема кушанской абсолютной хронологии. — ВДИ. 1969, № 2; он же. Культура сасанидского Ирана, с. 124-151.
[25] Кругликова И.Т. Настенные росписи Дильберджина. — Древняя Бактрия. Материалы Советско-Афганской экспедиции 1969-1973 гг. М., 1976, с. 96-101, рис. 56-59.
[26] Маршак Б.И. Отчёт о работах на объекте XII за 1955-1960 гг. — МИА. 1964, № 124, рис. 25, 7, 8; Григорьев Г.В. Поселения, рис. 3, г.
[27] Беленицкий A.M. Искусство античных и средневековых городов Средней Азии. — Произведения искусства в новых находках советских археологов. М., 1977, рис. 46, 47; Борисов А.Я. К истолкованию изображений на бия-найманских оссуариях. — ТОВЭ. Т. 2, 1940, с. 31, 43-45, табл. II; Ставиский Б.Я. Оссуарии из Бия-наймана. — ТГЭ. Т. 5. Л., 1961, с. 167, табл. II; Беленицкий A.M., Маршак Б.И. Черты мировоззрения, рис. 11.
[28] Маршак Б.И. Отчёт, с. 237-240, рис. 26.
[29] Беленицкий A.M., Маршак Б.И. Черты мировоззрения, с. 76-82.
[31] Беленицкий A.M. Вопросы идеологии и культов, с. 52.
[32] Беленицкий А.М., Маршак Б.И., Распопова В.И. Социальная структура населения древнего Пенджикента. — Товарно-денежные отношения на Ближнем и Среднем Востоке в эпоху средневековья. М., 1979, с. 19-24.
[33] Луконин В.Г. Иран в эпоху первых Сасанидов; он же. Культура сасанидского Ирана; он же. Искусство древнего Ирана, с. 140-221; он же. Иран в III веке.
[34] Беленицкий A.M. Вопросы идеологии и культов, с. 76-81; он же. Монументальное искусство, с. 42-44, рис. 43.
[35] Маршак Б.И. Восточные аналогии зданиям типа вписанного креста. Пенджикент и Бамиан. V-VIII вв. — Probleme der Architektur des Orients. Halle (Saale), 1983.
[36] Негматов H.H. Божественный и демонический пантеоны Уструшаны и их индоиранские параллели. — Древние культуры Средней Азии и Индии. Л., 1984, с. 147-155, рис. 1, 2; Шкода В.Г. К вопросу о культовых сценах в согдийской живописи. — СГЭ. Вып. 45. Л., 1980.
[37] Беленицкий A.M. Вопросы идеологии и культов, с. 57-62. Надо отметить, что археологические аргументы о незороастрийском характере религии Согда могут быть отнесены и к Хорезму, где тоже был ос-
(247/248)
суарный обряд, сцены оплакивания, коленопреклонённая поза молящегося, образ четверорукой богини и т.д. Однако в зороастризме хорезмийцев (конечно, неидентичном сасанидскому) не приходится сомневаться. Для Бируни вера хорезмских магов и вообще доисламских хорезмийцев одна и та же. Он отмечает, что зороастрийские шесть гаханбаров в отличие от праздников, распределяемых по дням месяцев, считались «нужными в делах их веры», и приводит авестийские названия пяти гаханбаров в передаче хорезмийских жрецов. См.: Абу Рейхан Бируни. Избранные произведения. Т. 1. Таш., 1957, с. 258; Taqizadeh S.H. The Old Iranian Calendars again. — BSOAS. 1952, c. 14. Недавно был выявлен зороастрийский согдийский текст с отрывком авестийской молитвы, записанной согдийскими буквами: Лившиц В.А. Согдийский язык. Введение, с. 353-354; Sims-Williams N. The Sogdian Fragments of the British Library. — IIJ. 1976, vol. 18 (with Appendix by I.Gershevitch), c. 46-48.
[38] Беленицкий А.М. Вопросы идеологии и культов, с. 36, 64.
[39] Альбаум Л.И. Живопись Афрасиаба, табл. V-L; Шишкин В.А. Варахша. М., 1963, табл. ХІV-ХVІIІ; Беленицкий A.M. Монументальное искусство, табл. 5-16, 23-32, 35-39.
[40] Негматов H.H. О живописи дворца афшинов Уструшаны (Предварительное сообщение). — СА. 1973, № 3; Воронина В.Л., Негматов H.H. Открытие Уструшаны. — Наука и человечество. 1975. М., 1974, с. 65-67.
[41] Грязнов М.П. Таштыкская культура. — Комплекс археологических памятников у горы Тепсей на Енисее. Новосибирск, 1979, с. 97, 104-105, рис. 59-61.
[42] Along the Ancient Silk Routes. Central Asian Art from the West Berlin State Museums. An Exhibition Lent by the Museum für Indische Kunst. Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz. Berlin. The Metropolitan Museum of Art. New York. 1982, c. 214-215, № 152. Ср.: Соломоник И.Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра плоских изображений. М., 1983, гл. 1.
[43] Живопись и скульптура Таджикистана. Древность и средние века. Каталог выставки. Л., 1984, с. 35-37.
[44] Belenitskii A.M. and Marshak B.I. The Paintings of Sogdiana, C. 27, 28, 60, 68; Живопись и скульптура Таджикистана, с. 22, 35-38.
[45] Калила и Димна. Перевод с арабского И.Ю. Крачковского и И.П. Кузьмина. Под ред. И.Ю. Крачковского. М., 1957, с. 72.
[46] Беленицкий A.M. Монументальное искусство, табл. 7, 9, 13.
[47] Дьяконов М.М. Росписи Пенджикента, с. 143-147.
[48] Маршак Б.И. Согдийское серебро, гл. 2, 3.
[49] Абдуллоев Д. Пенджикент периода арабского завоевания Средней Азии и вопрос о согдийском культурном наследии. Автореф. канд. дис. Л., 1980, с. 12-17.
[50] Беленицкий А.М., Бентович И.Б. Из истории среднеазиатского шелкоткачества (К идентификации ткани «занданечи»), СА. 1961, № 2, с. 74-76, рис. 7, 8.
[51] Мирзоев A.M. Рудаки. Жизнь и творчество. М., 1968, с. 151-156.
|