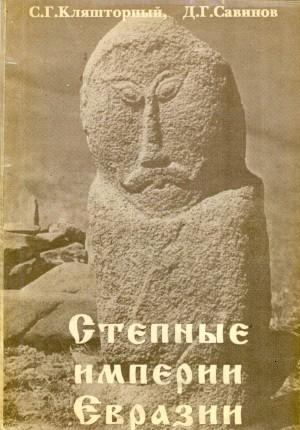 С.Г. Кляшторный
С.Г. Кляшторный
Древнетюркские племенные союзы
и государства Великой Степи.
// С.Г. Кляшторный, Д.Г. Савинов. Степные империи Евразии.
СПб: Фарн. 1994. С. 8-91.
Социальная структура древнетюркских государств.
Атрибуции социальной природы древнетюркских государств, обладающих одинаковыми институтами общественного устройства, до сих пор весьма разноречивы. Их определяют и как военную демократию, и как родо-племенное государство, и как военно-рабовладельческие империи, и как феодальные или патриархально-феодальные государственные образования. Общеизвестная скудость источников побуждает многих исследователей руководствоваться скорее генерализованными представлениями, чем результатами анализа немногочисленных и не всегда ясных свидетельств.
Особое значение для выявления социальных связей и зависимостей имеют памятники, созданные в древнетюркской среде. В год Барса по степному календарю, а по нашему летоисчислению в году 582, среди громадных курганов скифских царей, что в Оленьем урочище на реке Баин-Цаган, в центре Хангайской горной страны, над местом поминовения тюркского кагана Таспара (дотронное
(66/67)
имя — Махан-тегин), была воздвигнута стела с надписью о деяниях первых тюркских каганов, распространивших свою власть от Жёлтой реки до Боспора Киммерийского. Именно с этой стелы, получившей название Бугутской, ведётся ныне отсчёт древнетюркских памятников на согдийском и тюркском языках. Полтысячелетия воздвигались на поминальном кургане высшей знати тюрков, уйгуров и кыргызов каменные стелы с надписями, где апология усопших вождей соседствовала с царским хрониконом и актуальной декларацией, а дидактика окрашивалась политическими эмоциями. Заупокойные эпитафии становились средством монументальной пропаганды. Они отражали, формулировали и формировали видение и картину мира, отстаивали и навязывали жизненные и нравственные идеалы, устремления, цели.
Через несколько столетни, в столице Караханидской державы, уже включившейся в систему развитых цивилизаций ислама, но ещё сохранившей архаичные институты древнетюркского времени, была написана дидактическая поэма Кутадгу билиг («Благодатное знание»). Ее автор, государственный деятель и политический теоретик, хасхаджиб Юсуф Баласагунский, обрисовал идеальные формы общественного и политического устройства, во многом коррелирующие с социальными реалиями, запечатлёнными руническими текстами. Общество, конструируемое Юсуфом, строго иерархично. Личность в нём, полностью лишённая индивидуальности, выступает как воплощение сословных черт, её поведение запрограммировано и определено исключительно сословными функциями. Всё, что делает или может сделать человек в мире, воспетом Юсуфом, сводится к двум категориям — должного и недолжного. Конечно же должное и недолжное совершенно различны для людей из разных сословий и покушение на основные разграничения почитаются абсолютным элом, нарушением божественной воли и заветов предков. Вряд ли какой-либо из памятников тюркского средневековья столь же полно отражает образ мышления караханидской аристократии. И ни один из памятников не перекликается столь же живо с древнейшими тюркскими текстами камнеписными памятниками Центральной Азии. И здесь и там на первом плане политическая доктрина, отражающая взгляд на мир тюркской военно-племенной знати, для которой абсолютным императивом было стремление к подчинению иноплеменников и господству над ними.
Война ради добычи, усердие в её поиске и щедрость при распределении добытого среди войска представляются Юсуфу едва ли не главными добродетелями правителей:
О беки! Нам любо усердье элика
Да будет и Ваше раденье велико
Усердием беков усилится власть
От ленности их ей назначено пасть!
Внемли, что сказал муж о рати своей
«Добудешь победу — наград не жалей!
Корми, награждай, не жалея отличий,
Иссякнут дары — снова мчись за добычей».
(Перевод С.Н. Иванова)
Те же мотивы звучат в декларациях тюркских каганов и полководцем 8-го
(67/68)
века, запечатлённых орхонскими стелами в Монголии и таласскими эпитафиями на Тянь-Шане. «Я постоянно ходил походами на ближних и на дальних!» — повествует эпитафия Бег-чора, одного из таласских князей тридцатых годов VIII-го века. Структура древнетюркской общины веками складывалась и приспосабливалась к целям и задачам военного быта. Тюркский племенной союз (тюрк кара камаг бодун), состоявший из племён (бод) и родов (огуш) был политически организован в эль — имперскую структуру. Родоплеменная организация — бодун, и военно-административная организация — эль — взаимно дополняли друг друга, определяя плотность и прочность социальных связей. Хан «держал эль и возглавлял бодун» (Е45, стк. 4). Он осуществлял функции главы «гражданского» управления внутри своего собственного племенного союза (народа) по праву старшего в генеалогической иерархии родов и племён, и выступал в роли вождя, верховного судьи и верховного жреца. Вместе с тем, возглавляя политическую организацию, созданную его племенным союзом, он выполнял функции военного руководителя, подчинявшего другие племена и вынуждавшего их к уплате даней и податей. Поддержание на должном уроне боевой мощи армии, ориентация походов и набегов, удержание в подчинении и послушании покорённых, использование их экономических и военных ресурсов — таковы функции древнетюркского эля, который возглавлялся каганом, в свою очередь опиравшегося на племенную аристократию, из которой комплектовалось «служивое сословие», т.е. военно-административное руководство и личное окружение кагана.
Обращаясь с надписями-манифестами к своим «слушателям» («слушайте хорошенько мою речь!» — требует Бильге-каган, КТм 2) тюркские каганы и их приближённые выделяют среди «внимающих» им два сословия — знать и народ. В Бугутской надписи эти два сословия именуются куркапыны, т.е. «обладающие саном», и стоящие ниже их «сородичи и народ» (стк. 12). В надписях второго Тюркского каганата равноценный стереотип обращения — беги и народ (тюрк беглер бодун «тюркские беги и народ»). Беги и «простой народ» фигурируют в памятниках енисейских кыргызов. Наиболее резкое противопоставление знати и народа содержится в терминологии обоих древнеуйгурских памятников середины VIII в.: атлыг «именитые» и игиль кара бодун «простой народ".
В памятниках отчётливо проявляется двухступенчатый характер социальных оппозиций внутри регистрируемой текстами структуры «каган — беги — народ».
Описываемые в надписи ситуации выявляют различия поведения и интересов бегов и народа. Так, в Онгинской надписи рассказывается о битве, в ходе которой простой народ сражается и гибнет, а беги спасаются, покинув поле боя (Оа I). Уйгурский каган Элетмиш Бильге, противопоставляя интересы изменивших ему «именитых» интересам «своего простого народа», призывает отколовшиеся племена вновь подчиниться (МШУ 19). В иной ситуации тюркский Бильге-каган требует от народа, чтобы тот «не отделялся» от своих бегов (БК, Хб 13). Здесь проявляется та же тенденция, что
(68/69)
и в «аристократическом фольклоре», сохранённом Махмудом Кашгарским (МК 1, 466).
Опора земли — гора,
Опора народа — бег!
Самая суть отношений знати к народу ясно выражена в эпитафии — завете одного из кыргызских бегов: «Простой народ, будь усерден (трудолюбив)! Не нарушай установлений эля!» (Е10, стк.7).
Другая оппозиция, напротив, объединяет бегов и народ, противопоставляя племенные интересы единству эля, олицетворяемому каганом. Попрекая бегов и народ за былые измены, за стремление откочёвывать и выйти из-под руки кагана, Бильге обвиняет их в прежних несчастьях тюркского эля, требует раскаяния в прошлых поступках и постоянной верности кагану (КТм 10-11, КТб 6-7). в некоторых вариантах политических сентенций упомянут только «тюркский народ», «провинившийся» перед каганом (Т 1-4), но контекст явно указывает, что беги не отделяются здесь от народа (КТб 6-7, 22-24). Призыв к покорности кагану бегов и народа, призыв к совместному противостоянию враждебному окружению выражен орхонскими надписями предельно эмоционально.
Обе позиции, столь отчётливые в древнетюркских памятниках, оставаясь социальными оппозициями, не стали зрелыми противоречиями. Фиксируя позиции традиционных сословий, составлявших общину, они скорее отражают борьбу этих сословий за свою долю материальных благ, получаемых общиной, нежели попытки изменения структуры. Показателен в этом отношении рассказ осведомлённого иноземного историографа о возвышении и гибели тюргешского кагана Суду (Сулука): «В начале (своего правления — С.К.) Сулу хорошо управлял людьми: был внимателен и бережлив. После каждого сражения добычу свою он отдавал подчинённым, почему роды были довольны и служили ему всеми силами... В последние годы он почувствовал скудность, почему награбленные добычи начал мало помалу удерживать без раздела. Тогда и подчинённые начали отдаляться от него... Мохэ Дагань и Думочжы неожиданно в ночи напали на Сулу и убили его».
Высшим сословием древнетюркской общины были беги, аристократия по крови, по праву происхождения из рода, особый статус которого в руководстве делами племени считался неоспоримым, освящённым традицией. Элитой аристократии по крови был в Тюркском эле каганский род Ашина, в государстве уйгуров — род Яглакар. Вместе с несколькими другими знатными родами, иерархия которых была общеизвестна и общепризнанна, они составляли верхушку своих общий, особое наиболее привилегированное сословие.
Положение знатных родов зиждилось как на праве руководства племенем и общиной, так и на обязанности заботиться о благосостоянии соплеменников. Каждую племенную группу — тюркскую, уйгурскую, кыргызскую — связывали идеология генеалогической общности, реальной материальной базой которой было право собственности на коренные и завоёванные земли, право на долю в доходах от военной добычи, эксплуатации побеждённых и
(69/70)
покорённых племён. Во всех надписях тюркских каганов и их сподвижников настойчиво повторяется, что только каган с помощью своих родичей и свойственников способны «вскормить народ». В уцелевших фрагментах текста Бугутской надписи эта формула повторена трижды: про Мухан-кагана (553-572 гг.) сказано, что он «хорошо вскормил народ» (Б II 4). Бильге-кана постоянно напоминает «слушателям», что он «одел нагой народ», накормил «голодный народ», сделал богатым «бедный народ»; благодаря ему «тюркский народ много приобрёл», «ради тюркского народа» он и его младший брат Кюль-тегин «не сидели без дела днём и не спали ночью» (КТм 9-10, КТб 20-27, БК 33, 38, БК Xа 10, БК Xб 11-12). Бильге Тоньюкук напоминает о неустанных «приобретениях» ради тюркского народа, осуществлявшихся Эльтериш-каганом и им самим, сопровождая свои слова сентенцией: «Если бы у народа, имеющего кагана, (тот) оказался бы бездельником, что за горе бы у него (народа) было!» (Т 57).
Единство, которого требуют каганы, единство внутри общины, основанное не на равенстве соплеменников, а на многоступенчатой системе подчинения, означало отказ от сословных разногласий и принятия такой политической структуры и таких правовых норм, при которых власть, а следовательно и богатство, добываемое путём внеэкономического принуждения, войной и угрозой войны, принадлежало бы аристократам по крови, выделявшей остальной общине установленную традицией долю добычи и дани. Своё социальное и правовое единство находило в применении ко всем её членам единого наименования er «муж-воин».
«Мужем-воином» становился по праву рождения любой юноша, достигший определённого возраста и получивший er aty «мужское (геройское, воинское) имя», будь он одним из сотен рядовых воинов или принцем крови. Так, в сочетании «начальник над пятью тысячами мужами-воинами» (Терхин, 7), термином эр обозначен каждый воин пятитысячного отряда. Но «мужем-воином» стал, по исполнении десяти лет, и сын Эльтериш-кагана, Кюль-тегин (КТб 30 31).
Получение «мужского имени» было связано с обрядом инициации, которому предшествовало совершение юношей охотничьего или воинского подвига. Скорее всего, с этим обрядом связаны упоминаемые в надписи из Ихе Хушоту охотничьи подвиги её героя: «в семь лет Кули-чор убил горную козу, а в десять лет — дикого кабана» (ИХ 18). Не исключено, что в знатных семьях обряд инициации происходил несколько раньше, чем в остальных, после первых же охотничьих успехов испытуемого. О более распространённом варианте инициации упоминает сравнительно поздний рунический текст на бумаге (X в.) Ырк битиг («Книга гаданий»): «Рассказывают: сын героя-воина (алп эр оглы) пошёл в поход. На поле боя Эрклиг сделал его своим посланцем. И говорят: когда он возвращается домой, то сам он приходит знаменитым и радостным, со славой (мужа), достигшего зрелости. Так знайте — это очень хорошо!» (притча X). Лишь приняв участие в бою и проявив воинскую доблесть, юноша (огул) «достигает зрелости».
Подобная же ситуация, рисующая сам обряд инициации, описана в
(70/71)
огузском эпосе «Книга моего деда Коркута»: сыну хана Бай-Бури исполнилось пятнадцать лет, он стал джигитом, но «в тот век юноше не давали имени, пока он не отрубил головы, не пролил крови». Речь идёт не об отсутствии имени вообще — мальчика звали Басам, а об отсутствии «мужского имени». Басам убивает разбойников, напавших на купеческий караван. И тогда Бай-Бури созывает на пир беков огузов: вместе с беками «пришёл мой дед Коркут; дал юноше имя: ты зовёшь своего сына Басамом (теперь) пусть его имя будет Байси-Бейрек, владелец серого жеребца!».
Получив «мужское имя», воин мог присоединить к нему титулы, указывающие на его знатность или место в военно-административной иерархии каганата; однако, во всех случаях, он оставался прежде всего «мужем-воином», т.е. полноправным членом тюркской общины.
Вместе с тем, тюркский эль, как и любое из племён, входивших в него, был детально ранжированным сообществом, где положение каждого эра определялось, прежде всего, степенью привилегированности его рода и племени. Строгая иерархия родов и племён была в кочевнических государствах Центральной Азии основополагающим принципом общественного и государственного устройства.
Место эра в обществе определял его титул, сан, являющийся частью его «мужского имени» и неотделимый, а часто и неотличимый от имени. Титул был зачастую наследственным по праву майората при престолонаследии, и минората при наследовании хозяйства и дома. Яркий пример наследования титула и положения содержит надпись из Ихе Хушоту, где рассказана судьба сразу трёх поколений Кули-чоров, наследственных вождей и «бегов народа» тардушей. Именно титул указывал место эра в системе управления и подчинения. Большинство эпитафий, найденных в Монголии и на Енисее, в первых же строках сообщают имя и титул покойного, иногда указывают его родственные связи, но чаще просто воспроизводят его родословную тамгу с добавочными (диакритическими) знаками, фиксирующими место героя надписи в счёте поколений. Вот пример сравнительно полной по указаниям на положение в эле надписи (памятник с Уюк-Тарлака, Е1).
(1) С вами, мой эль, мои жёны, мои сыновья, мой народ — о, жаль мне! — я расстался в свои шестьдесят лет.
(2) Моё имя Эль-Тоган-тутук. Я был правителем моего божественного эля. Я был бегом моему шестисоставному народу.
Для положения и престижа эра немалое значение имело его богатство, благосостояние его семьи. Понятие собственности в отношении движимого имущества, включая юрты (эб керегю) и постройки (барк), но прежде всего, собственности на скот, проявляется в орхоно-енисейских надписях со всей определённостью. Имущественная дифференциация внутри тюркских племён, как и у других кочевников Центральной Азии, была весьма значительной. Богатство становилось предметом гордости и похвальбы тюркской аристократии. Особенно яркие имущественные характеристики содержат кыргызские надписи. «Я был богат. У меня было десять загонов для скота. Табунов у меня было
(71/72)
бесчисленное (множество)!» — этими словами из эпитафии определяет свой социальный вес в мире, который он покинул, Кутлуг бага-таркан, знатный кыргызский бег, живший в Северной Монголии во второй половине IX в. (Е47, стк. 5). Другой кыргызский бег упоминает шесть тысяч своих коней (Е3, стк. 5), т.е. по обычному соотношению между лошадьми и другим скотом, он владел более чем двадцатью тысячами голов. В других надписях упоминаются также верблюды и разный скот «в бесчисленном количестве». Счастье, которое просит человек у божества, оно дарует ему обычным благопожеланием — «Да будет у тебя скот в твоих загонах!» (ЫБ, X VII).
Богатым (бай, байбар, йылсыг) противопоставлены в надписях «бедняки», «неимущие» (чыгай, йок чыгай). Для автора Кошоцайдамских надписей бедный люд, «не имеющий пищи внутри, не имеющий платья снаружи» — «жалкий, ничтожный, низкий народ» (ябыз яблак бодун) (КТб 26). Бедность не вызывала сочувствия, более того, была презираема. Настоящий «муж-воин» оружием добывает своё богатство: «В мои пятнадцать лет я пошёл (походом) на китайского хана. Благодаря своему мужеству... я добыл (себе) в (китайском) государстве золото, серебро, одногорбых верблюдов, людей (вар.: жён)!» (Е11, стк.9).
Как бы перекликаясь с древними текстами, впечатляющий образ добычливого «мужа-воина» рисует Юсуф Баласагунский:
У хваткого мужа казна не скудеет,
У птиц изобилие зерна не скудеет,
Пока муж с оружием, он смел и силён,
Бояться ль ему бездобычных времён!
(Перевод С.Н. Иванова)
Яркие примеры социальной и имущественной дифференциации древнетюркского общества дают результаты археологических исследований. По сравнению с великолепными погребальными сооружениями высшей знати, которые сооружали сотни людей и для украшения которых приглашались иноземные мастера, казались невзрачными курганы простых воинов, где рядом с хозяином в полном вооружении лежал его боевой конь под седлом. Но в погребениях беднейших общинников не было ни дорогого оружия, ни коня.
На границе Тувы и Монголии, в высокогорной долине р. Каргы в Монгун-Тайге, где раскопано несколько из множества тюркских курганов VI-IX вв., два захоронения привлекают особое внимание. Одно из них — захоронение богатого и знатного эра из далёкого пограничного племени Тюркского каганата. Он похоронен по полному обряду, с конём, в одежде из дорогих китайских шелков. Такие шелка обозначались в древнетюркском языке словом агы «драгоценность, сокровище». Рядом лежало китайское металлическое зеркало с иероглифической надписью и высокохудожественным орнаментом, из тех, что чрезвычайно ценились древними кочевниками Центральной Азии и иногда упоминались в эпитафии (Е26). Десять золотых бляшек, украшающих конский убор, изготовлены из высокопробного золота. В соседнем кургане был погребён 30-35-летний мужчина, главным имуществом которого был берестяной
(72/73)
колчан. Вместо боевого коня рядом был положен взнузданный и подпружённый баран.
Малоимущие эры неизбежно попадали в личную зависимость от бегов. Именно о них пишет Махмуд Кашкарский: «эр стал на колени перед бегом» (МК II, 21). Только у знатных и богатых бегов они могли получить в пользование скот за отработку и службу, или стать пастухами громадных табунов и стад своих богатых сородичей. Из обедневших эров формировалась постоянная дружина бега и его челядь, ходившие с ним в набег и поход, защищавшие его стада и имущество, прислуживающие бегу в повседневном быту. Махмуд Кашгарский называет каждого из них кулсыг эр «эр, подобный рабу» (МК III, 128).
Содержать большое количество зависимых сородичей могли только богатые беги. В свою очередь, от числа дружинников и челяди зависела способность бега приобрести и сохранить богатство, престиж н положение. Махмуд Кашгарский сохранил поговорку-двустишие, бытовавшее в древнетюркской среде (МК I, 362).
У кого приумножается имущество,
тому и подобает быть бегом.
Оставшись без богатства, бег
страдает из-за отсутствия эров.
Бег не может сохранить свой престиж без зависимых от него эров. Лишившийся скота и обедневший эр не может прожить без материальной помощи и защиты бега. Но даже самый бедный из эров, не брезгующий подаянием, сохранял известную независимость и свободу по отношению к бегу-сородичу. И какими бы противоречиями не [ни] характеризовались отношения между бедными и богатыми, между бегами и «простым людом», бодун в целом противостоял другой группе населения, входившей в древнетюркский эль — полностью зависимым от эров невольникам, которые даже влившись в семьи своих хозяев, не стали членами древнетюркской общины.
Семантический спектр терминов, которыми обозначены в древнетюркских рунических памятниках Монголии и Енисея несвободный мужчина (кул) и несвободная женщина (кюн), выявляются при анализе описанных текстами типических ситуаций, когда эти термины употреблены. Наиболее обычной из подобных ситуации был захват людей во время набега, в ходе межплеменных войн. Сообщения о захвате полона обычны для рунических надписей. Рабы и рабыни в древнетюркской общине были людьми, насильственно увезёнными с мест их обитания, вырванными из их племенной (этнической) среды, лишёнными своего статуса, отданными во власть своих хозяев. Рабство становилось их пожизненным состоянием.
Характеристика экономической роли рабства в древнетюркском обществе неизбежно весьма неполна, из-за отсутствия указаний на формы использования невольников. За пределами внимания исследователей ещё остаётся тот немаловажный факт, что тексты фиксируют прежде всего, а зачастую исключительно, увод в неволю женщин и девушек, иногда мальчиков и юношей, но никогда — взрослых мужчин. Женщин и девушек
(73/74)
упоминают как главную военную добычу, их требовали в качестве контрибуции, их отнимали у подвластных племён, если те поднимали мятеж или задерживали выплату дани. Стремление захватить в неволю прежде всего женщин явно указывает на преобладание домашнего рабства, которое является разновидностью патриархального рабства.
Попав в неволю, женщина тем самым оказывалась и в системе семейных отношении своего владельца, и в системе хозяйственной деятельности, осуществляемой его семьёй, участвуя как в семейном, так и в общественном производстве. При этом не имело решающего значения, оказывалась ли она в положении одной из жён своего владельца или в положении рабыни-служанки. Этнографически[е] наблюдения показывают, что у кочевников доля участия женщин в повседневной трудовой деятельности превышает трудовой вклад мужчин. Эту особенность воинственного кочевого общества тонко подметил и несколько утрированно обрисовал столь незаурядный наблюдатель жизни монголов в эпоху первых Чингизидов, каким был Плано Карпипи: «Мужчины вовсе ничего не делают, за исключением стрел, а также имеют отчасти попечение о стадах. Но они охотятся и упражняются в стрельбе... Жёны их всё делают: полушубки, платье, башмаки, сапоги и все изделия из кожи, также они правят повозками и чинят их, вьючат верблюдов и во всех своих делах очень проворны и споры». Сведения Плано Карпини подтверждают и дополняют Гильом Рубрук и Марко Поло, о том же свидетельствуют позднейшие этнографические материалы. Так, у монголов «дойкой скота, переработкой животноводческой продукции, пошивкой одежды, приготовлением пищи и другими домашними работами целиком заняты женщины». Вместе с тем, женщины активно участвуют в выпасе овец и коз.
В условиях патриархального натурального хозяйства, а любое кочевое и полукочевое хозяйство является таковым, благосостояние семьи зависело не только от количества скота, его сохранения и воспроизводства, но и в неменьшей степени от способности своевременно и полностью переработать, подготовить к использованию или хранению всю многообразную продукцию животноводства, охоты, собирательства, подсобного земледелия. Во всём этом женский труд играл основную роль. Поэтому и в многожёнстве кочевников древней Центральной Азии, и в стойком сохранении у них левирата, и в захвате во время набегов преимущественно женщин очевидна экономическая обусловленность, стремление обеспечить дополнительной рабочей силой своё семейное хозяйство, основную производственную ячейку любого кочевого общества. И чем богаче скотом было это хозяйство, тем в большем количестве женских рук оно нуждалось.
Использование в кочевом хозяйстве подневольного женского труда вместо сколько-нибудь значительного числа рабов-мужчин настоятельно диктовалось также соображениями безопасности. Концентрация рабов, т.е. недавних воинов враждебных племён, в аилах, рассеянных по степи и горам,
(74/75)
в ставках кочевой знати, передача на попечение рабов скота, домов и семей во время длительных отлучек ушедших в очередной поход воинов господствующего племени — всё это было невозможно ради простого самосохранения. Концентрация невольниц, часть которых становилась жёнами и наложницами своих хозяев, не представляла для тех опасности, надзор за ними осуществлялся в рамках семейного быта. Вместе с тем, интенсивное использование труда невольниц на всех работах, включая выпас скота, высвобождало для войны значительную часть мужчин. Ведь, согласно «Ясе» Чингиз-хана, во время походов женщины «исполняли труды и обязанности мужчин».
Были у кочевников и рабы-мужчины. Если судить по примерам, относящимся к гуннской и монгольской эпохам, многие из них становились пастухами коров и овец (чабанами), но не табунщиками — коней рабам не доверяли. Лишь у енисейских кыргыз, практиковавших ирригационное земледелие и строивших укреплённые «городки», труд рабов-мужчин применялся сравнительно часто. Часть захваченных пленников тюрки освобождали за выкуп или продавали в Китай.
Таким образом, хотя личное рабство в тюркских государствах Центральной Азии не выходило, в основном, за пределы домашнего рабства, вся жизнедеятельность древнетюркской общины, а в какой-то мере и её боевая сила, были связаны с эксплуатацией невольников или, в ещё большей степени, невольниц. Захват полона был одной из главных целей тех войн, которые вели тюрки.
Как очевидно из изложенного, сложившееся в степной зоне Центральной Азии общество обладало высоким потенциалом горизонтальной социальной мобильности, принимавшей зачастую форму инвазии и сопровождавшейся, по мере осуществления, сегментацией первоначальных социальных ячеек. Основными факторами горизонтальной мобильности были, в этих условиях, крайняя неустойчивость экстенсивной скотоводческой экономики и её чрезмерная специализация, лишавшая кочевое общество возможности полного самообеспечения. Следует, конечно, оговорить экологическую обусловленность такого рода специализации.
Определяя формы вертикальной социальной мобильности, описываемое общество, с некоторыми оговорками, следует отнести к социологически открытым, чему, казалось бы, противоречит его строго иерархизовинный характер. Однако, роль богатства и личной воинской доблести создавали часто реализуемые предпосылки к продвижению или деградации, с последующей дифференциацией, не нарушавшей цельности системы. Лишь на самой высшей ступени власти изменение статуса неизбежно сопровождалось насильственной сменой всей правящей родоплеменной группировки и, строго говоря, одновременным изменением всего состава привилегированного сословия.
Вместе с тем, допустимые формы вертикальной мобильности не носили регулярного и узаконенного характера. Они воспринимались обыденным сознанием, но не имели оправдания в политической доктрине в высших формах идеологии, что, по всей вероятности, следует связать с общей
(75/76)
незрелостью социально-политической структуры или, точнее говоря, с безысходной внутренней противоречивостью структуры кочевого общества.
|