|
|
|
Рис. 2. Ацтекское золотое украшение. Вид сзади.
|
Рис. 3. Ацтекское золотое украшение. Вид сбоку.
|
Сохранность эрмитажного памятника вполне удовлетворительна, кое-где на поверхности предмета имеются отдельные раковинки от отливки и выбоинки.
|
|
|
Доп. фото 1 (открыть).
Эрмитаж. 250. Шедевры. С. 636. |
Доп. фото 2 (открыть).
|
Доп. фото 3 (открыть).
Строгановы… С. 159. |
II
Эрмитажное украшение было отлито из высококачественного золота блестящего жёлтого цвета при помощи способа «потерянной восковой формы». После отливки вещь была зачищена, детали её в нескольких местах (главным образом лицо воина и его шлем) доработаны резцом и отшлифованы. Некоторые детали публикуемого памятника (прежде всего султан из перьев, нагрудное украшение и др.) производят впечатление филигранной техники, но тщательное освидетельствование предмета показывает, что в действительности мы имеем здесь дело с так называемой ложной филигранью, т.е. тонкими полосками металла на поверхности предмета, образуемыми при отливке. Этот вид ювелирной техники очень обычен для произведений всей древнеамериканской торевтики,
и поэтому к встречающимся в научной литературе указаниям на филигранную технику в применении к древнеамериканским ювелирным изделиям следует относиться с большой осторожностью. В подавляющем большинстве случаев мы будем иметь дело не с подлинной филигранью, а с филигранью ложной. [16]
О ювелирном мастерстве древней Мексики, или, вернее, о процессе работы древнемексиканских ювелиров, мы, к сожалению, знаем очень мало. В нашем распоряжении имеется, в сущности, только один письменный источник по этому вопросу — описание работы ювелиров в монументальном труде Бернардино де Саахуна. [17] Из других источников нам известно лишь, что золото составляло часть ежегодной дани, которую платили ацтекам покорённые области южной Мексики. До нас дошло перечисление таких даней в одной из доколумбовских ацтекских рукописей, известной под названием «Податного списка Монтесумы». [18] Золото поставлялось в виде песка, насыпанного в тыквы и трубочки из полого тростника, в виде самородков, или плавленное, в виде узких полос. От некоторых областей (главным образом сапотекских городов долины Оахака: Ишикайян, Миктлан, Янкуитлан, Тепускулан, Тамасолан, Этлан, Камотлан, Яутлан, Теокуитлан, само название которого обозначает «место золота», а также от поселений в юго-восточной части побережья Вера Крус и Соконуско) ацтеки требовали золото в виде готовых ювелирных изделий: диадемы различной формы, нагрудные украшения, серьги, бусы, вставки для губ и др. Это свидетельство кодексов хорошо объясняет наличие явно сапотекских ювелирных изделий в развалинах чисто ацтекских поселений.
Отчёт Саахуна о работе мексиканских ювелиров настолько интересен, что представляется полезным привести его здесь полностью, тем более, что этот текст никогда ещё не был переведён на русский язык. [19]
«1. Здесь рассказывается о работе ювелиров: [20] тех, кто делает модель с помощью древесного угля и воска, накладывая на неё рисунок, и таким образом они плавят золото и серебро.
2. Они начинают свою работу следующим образом: сперва мастер даёт им древесный уголь, который они очень мелко размалывают.
3. А когда он смолот, они добавляют (туда) немного глины, жирной земли, из которой делаются горшки. Они смешивают уголь с глиной, взбалтывают (эту смесь) и месят её таким образом, что эти два вещества составляют одну плотную и сплошную массу.
4. И когда масса приготовлена, они придают ей форму тонких дисков, которые выставляют на солнце. Подобным же образом они формуют ещё несколько дисков, состоящих только из глины, и выставляют их на солнце.
5. Эти вещи сушатся в течение двух дней на солнце и становятся твёрдыми, как камень.
6. Когда уголь [21] хорошо просохнет и станет очень твёрдым, его режут, тогда его вырезают при помощи маленького медного скребка.
7. То, что вырезается, должно иметь сходство с оригиналом и должно иметь жизнь, потому что каким бы ни был предмет, который они хотят изготовить, модель, возникающая из этого, [22] должна походить на оригинал и иметь жизнь.
8. Например, (если они желают изобразить) хуастека, живущего в соседней стране, с его большим украшением в ноздрях, пронизывающим носовой хрящ, (или) со стрелой, проходящей поперёк лица, и с телом, татуированным змеиными фигурами с обсидиановыми остриями, они придают угольной смеси этот вид, вырезывают его и покрывают упомянутыми выше рисунками.
9. Они внимательно рассматривают то животное, которое они желают изобразить, как должны быть представлены его сущность и внешний вид.
10. Например, если они желают изобразить черепаху, они придают углю её вид. Они делают её панцирь, в котором она может двигаться, из которого выглядывает её голова, из которого высовываются её шея и четыре движущиеся ноги.
11. Или если они желают создать из золота образ птицы, то уголь вырезывается в этом виде, с её оперением, с её крыльями, её хвостом и её ножками.
12. Или если они желают сделать рыбу, то они вырезывают уголь в виде рыбы, покрытой чешуёй. Они делают её плавники, её рёбра и её раздвоенный хвост.
13. Или когда требуется сделать краба пли ящерицу, то формуются её ноги.
14. Каким бы ни было животное, которое они хотят изобразить, оно (всегда) вырезывается из угля таким способом.
15. Или если они желают изготовить золотое ожерелье, усыпанное драгоценными камнями, снабжённое на нижнем конце колокольчиками и украшенное рельефами и рисунками цветов.
16. Когда угольная масса приготовлена таким образом, снабжена рисунками и вырезана, они кипятят воск, смешивают его с белым копалом, [23] благодаря чему он становится очень плотным.
17. Тогда они очищают его при помощи фильтра, чтобы удалить нечистоты воска, грязь и глину, смешанную с ним.
18. Когда воск приготовлен, они делают его тонким на плоском камне и раскатывают его при помощи деревянной ручной скалки.
19. Они утончают его и раскатывают на очень гладком камне.
20. Когда воск становится совершенно тонким, подобно паутине, и во всех местах имеет одинаковую толщину, они накладывают его на вырезанный уголь и плотно окружают его воском.
21. И они делают это не небрежно, но тщательно вырезают небольшой кусочек (воска), приблизительно соответствующий размерам вещи (которую желают отлить).
22. Они покрывают выпуклые часта и заполняют углубления, в особенности там, где уголь был вырезан.
23. Воск накладывается при помощи кусочка дерева.
24. И когда всё сделано описанным образом и воск наложен на все части угля, они накладывают, наносят растолчённый в порошок уголь на поверхность воска.
25. Они очень тонко размалывают угольный порошок и накладывают его довольно толстым слоем на восковую поверхность.
26. И когда всё приготовлено таким образом, они накладывают на это другую оболочку: в виде раковины, которая окружает модель и полностью закрывает её.
27. Приготовление раковины является последним из действий, направленных на изготовление формы для золотой вещи.
28. Эта раковина также делается из угля, смешанного с глиной, но не тонко размолотого, а только грубо размельчённого.
29. Когда модель закрыта и окружена раковиной, они оставляют её сохнуть в течение ещё двух дней.
30. Тогда они помещают (на неё) желобок, который изготовляется также из воска.
31. Он служит каналом, через который вливают расплавленное золото.
32. И тогда они помещают на землю плавильный тигель, который также делается из угля (и глины) и который имеет углубление.
33. Туда помещается также и уголь. [24]
34. Здесь-то золото и плавится, становится жидким, вступает затем в желобок и, проходя по нему, течёт вниз и распространяется там, (окружая модель).
35. И когда оно расплавилось и попало в форму и когда они, например, изготовили ожерелье или какой-нибудь из различных предметов, упомянутых в этой главе, то они полируют его при помощи крупного песка.
36. А когда полировка кончена, они помещают (отлитый предмет) в ванну из квасцов.
37. Они мелют квасцы, разводят их и купают в них отлитую золотую вещь.
38. Во второй раз они кладут её в огонь и нагревают её там.
39. И когда она вынимается из огня, они купают её во второй раз и мажут её (так называемой) золотой мазью, которая изготовляется из грязной земли, смешанной с небольшим количеством соли. Благодаря этому золото становится красивым и очень жёлтым.
40. И таким образом они трут и полируют и делают прекрасными драгоценные вещи, пока они не становятся очень блестящими, сверкающими и сияющими.
41. Они рассказывают, что прежде (в качестве материала) было только золото, что они использовали только лишь золото; прежде ювелиры лили золото в формы и выделывали из него украшения (ожерелья), а кузнецы ковали его, делали из него тонкие листы (для чеканки). Эти листы служили (для изготовления) всякого рода знаков отличия, в которых имелась необходимость.
42. Серебра (тогда) не существовало, кроме тех мест, где его находили, [25] и оно крайне ценилось.
43. Но теперь (для украшений) используется только серебро, потому что золото слишком в большой цене.
44. Теперь ювелиры, литейщики и кузнецы, если они изготовляют какие-нибудь украшения, используют также и красную медь. [26]
45. Но они добавляют к серебру только незначительное и точно определённое количество, которое сплавляется с ним.
46. И если серебро отливается без сплава, то вещь ломается.
47. И имеющиеся на ней рельефные части напаяны не на всех сторонах и имеют трещины.
48. А прежде ювелиры не обрабатывали и не ковали никакого другого металла, кроме золота.
49. После того как золото было проковано, они полировали и чистили его и наносили на него узор, сообразуясь с черновым контуром.
50. Прежде всего они просили мастеров изделий из перьев набросать для них контур рисунка.
51. Затем они сами вырезали кремнёвым остриём рисунок.
52. При нанесении рисунка кремнёвым остриём они следовали черновому контуру.
53. Они производили чеканку, всегда придерживаясь модели.
54. Подобным же образом они работают и в настоящее время, везде, где имеется потребность в их работах». [27]
Далее Саахун подробно останавливается на современном ему способе изготовления золотых изделий. Различия его от древнего невелики: они сводятся главным образом к новому виду изготовления модели (очевидно, заимствованному у испанцев) и к употреблению металлических инструментов. Судя по намекам Саахуна и дошедшим до нас образцам
изделий, этот новый способ, однако, не принёс никаких положительных сдвигов в качестве изготовляемых вещей, а скорее понизил его.
Саахун, по всей видимости, черпал свои сведения по ювелирному делу от обитателей Аскапоцалько — древнего города, основанного ещё тольтеками и находившегося неподалеку от Теночтитлана. Жители этого поселения издавна пользовались по всей долине Мехико славой замечательных мастеров ювелирного искусства. Ими же, очевидно, были выполнены и цветные рисунки, иллюстрировавшие приведённую выше главу.
При внимательном чтении текста Саахуна можно заметить, что. несмотря на всю его детальность, он не даёт ответа на целый ряд вопросов. В основном речь идёт только о литье, хотя из отдельных периодов текста можно догадаться о существовании ковки (периоды 41, 48-49) и напаивания (период 47). Правда, относительно последнего, слова Саахуна как будто бы дают возможность предполагать, что данная техника стала применяться только в испанское время. В таком случае этот вывод хорошо согласовался бы с отмеченным выше наблюдением об отсутствии в древних ацтекских изделиях подлинной филиграни.
Тщательное освидетельствование эрмитажной вещи даёт возможность, между прочим, более детально представить себе технику изготовления ложной филиграни, о чём в тексте Саахуна совершенно не имеется упоминания. При изготовлении модели публикуемой вещи мастер использовал кручёные нити, покрытые воском, — они-то и создают впечатление наличия в отливке филигранной техники. В ряде случаев на эрмитажном памятнике (главным образом султан из перьев) можно заметить, как мастер укладывал на модели эти нити, концы их, узлы, соединявшие два отрезка, и т.д. Такое заключение может быть подтверждено и этнографическими, и историческими данными: мы встречаем подобную технику и литых изделиях древнего Бенина, предметах из Закавказья, относящихся к бронзовому веку, и т.д.
Интересен способ очищения золота от примесей, упоминаемый Саахуном (периоды 38-39). Мексиканские золотые месторождения, как правило, содержат значительное количество серебра. [28] В современной технике эта серебряная примесь обычно отделяется от золота при помощи сильных кислот, но вполне понятно, что ацтекские мастера таким способом пользоваться не могли. Приводимый у Саахуна метод имеет свои параллели, относящиеся к самым различным историческим периодам. Наиболее древним упоминанием, насколько мне известно, является рассказ Диодора Сицилийского (заимствованный из сочинения Агатархида) о древнеегипетских золотых рудниках в Нубии. Правда, состав для удаления примесей здесь несколько отличается от мексиканского. [29] С другой стороны, удаление серебряных примесей при помощи глины и поваренной соли практиковалось на японском монетном дворе ещё во второй половине прошлого века. [30]
Правда, по всей видимости, Саахун несколько перепутал ход операции. По его изложению выходит, что изготовленную вещь сперва нагревают, а затем уже смазывают «золотой мазью». Судя по приведённым выше параллелям, эти действия должны были совершаться в обратном порядке.
В пользу предположения, что публикуемый предмет также был подвергнут подобной операции и, следовательно, имеет очищенным только поверхностный слой металла, говорит более тёмный и тусклый цвет металла внутри бубенца, если смотреть через разрез. [31]
Таким образом, суммируя сведения, приводимые Саахуном, с сообщениями других источников и анализом дошедших до нас предметов, мы можем заключить, что ацтекские ювелиры при изготовлении вещей пользовались несколькими различными видами техники. Первым (и основным) было литьё способом «потерянной восковой модели», причём для производства ложной филиграни широко использовались нити, покрытые воском. Вторым распространённым видом техники была обработка металла ковкой, холодной или под нагревом. В другом месте своего труда (книга XI, гл. 15) Саахун упоминает, что у ацтеков ювелиры делились на две категории, отличавшиеся по способу обработки металла. Одни обрабатывали золото ковкой, превращая его в тонкие, подобно бумаге, листы. Другие, называвшиеся tlataliani или tulteca (от легендарных тольтеков), создававшие изделия при помощи литья, были настоящими артистами своего дела.
Как уже указывалось выше, наличие пайки в древней Мексике не может быть вполне достоверно приписано доиспанскому периоду, несмотря на указания Саахуна (период 47) и Торибьо де Мотолиньи. [32] Во всяком случае мне неизвестны какие-либо образцы, позволяющие говорить об этом. Не имеется у нас свидетельств и о существовании у ацтеков чеканной или гравировальной техники. Однако малочисленность дошедших до нашего времени ацтекских ювелирных изделий не даёт возможности сделать какие-либо категорические выводы в этом отношении; вполне возможно, что новые находки могут значительно изменить сложившиеся у нас представления о том или ином виде техники. [33]
III.
Какое же назначение имел эрмитажный бубенец? Служил ли он простым украшением любого лица, или был приготовлен для определённой цели и использовался только в определённых случаях? В выяснении этого вопроса нам может помочь необычной формы шлем, имеющийся на публикуемой вещи.
В Национальном историческом музее г. Мехико хранится большая каменная скульптура, изображающая голову молодого человека с волевыми и энергичными чертами лица. Поражает мастерство, с которым скульптор (по всей видимости, из племени кулуа, так как вещь была найдена в Тескоко) дал психологическую характеристику изображённого человека, пользуясь самыми простыми изобразительными средствами (рис. 4). На голове воина имеется шлем, почти полностью совпадающий

Рис. 4. Голова «воина-орла».
Камень. Национальный музей, г. Мехико.
со шлемом на эрмитажном бубенце. Обычно эта скульптура определяется как портрет «caballero Águila» — «рыцаря-орла». [34] К рассмотрению, кто такие были эти «рыцари-орлы», или, вернее, «воины-орлы» древней Мексики, [35] мы теперь и обратимся.
Государство ацтеков было построено на военном могуществе. Только благодаря передовой по тому времени военной технике ацтеков, стратегически удачному расположению Теночтитлана и изумительному мужеству их воинов это небольшое вначале племя смогло за столь короткий промежуток времени стать полным повелителем долины Мехико и окружающих её территорий. Вполне естественно поэтому, что воинскому мужеству и отваге в ацтекском обществе уделялось особое внимание.
В упоминавшемся уже выше труде Саахуна мы находим ряд любопытных подробностей об этом. По его сообщению, у ацтеков (по крайней мере во времена Монтесумы II) существовал подробно разработанный церемониал для поощрения отличившихся в боях воинов. Попутно следует отметить, что заслуги воина рассматривались в прямой зависимости от числа человек, взятых им в плен (а не убитых, как в более примитивных обществах). В этом нельзя не видеть отражения развивавшейся уже в то время в ацтекском обществе идеологии рабовладельческого строя (учитывая, конечно, пережиточное ритуальное людоедство и жертвоприношения).
Уже переход из группы юношей в группу взрослых был связан с приводом пленного (причём различалось, был ли пленник взят без помощи товарищей, или с их помощью; соответственно положению вещей менялось и обязательное число пленных: если юноша действовал с помощью других, он должен был привести шесть человек). Только после этого юноша считался перешедшим в группу воинов и получал все права взрослого. Юношу, не смогшего долгое время захватить пленного, ожидал всеобщий позор; он считался «переростком» и был обязан носить детскую причёску. Захватившего пленного без помощи других юношей приводили во дворец Монтесумы, где победитель после беседы с правителем получал ценные подарки.
Вся дальнейшая карьера воина зависела от числа приведённых им пленных. В данной работе нет надобности останавливаться на подроб-
ном, как бы мы сказали, «прейскуранте», приводимом по этому поводу Саахуном. Ограничимся только непосредственно относящимися к рассматриваемой теме данными. [36]
Воин, пленивший четырёх или более человек, [37] получал звание «предводителя» (tequiua) и право на циновку (т.е. право сидеть) в «Орлином доме» (quauhcalli) — место собраний «воинов-орлов». Однако социальные различия в ацтекском обществе были уже настолько велики, что даже такой отличившийся воин не мог стать членом военного общества или объединения «воинов-орлов», если он не был знатным по рождению. Он лишь удостоивался чести присутствовать на их собраниях.
Институт «воинов-орлов», так же как и широко распространённый в древней Мексике другой — «воинов-ягуаров», [38] развился из мужских ритуальных союзов первобытного общества. Известно, что в определённые дни члены такого союза устраивали культовые пляски, переодеваясь в костюм, изображавший то или иное животное. [39] В условиях перехода к раннерабовладельческому обществу характер этих союзов изменяется, приспособляясь к новым идеологическим целям и задачам. Из первоначально культовых союзов они становятся замкнутым объединением наиболее отличившихся в военных действиях знатных лиц. К сожалению, несмотря на обильный материал, рассыпанный в источниках, до сих пор не имеется специального исследования, посвящённого этому интересному объединению. Лишь в последнее время оно было вкратце затронуто австрийским исследователем Фр. Кацем в его работе о социально-экономических отношениях в ацтекском обществе. Кац следующим образом характеризует особенности объединения «воинов-орлов»: в это общество допускались только знатные лица или их сыновья; все члены его имели все привилегии знати, т.е. были освобождены от подати, могли иметь нескольких жён, имели право носить одежду из хлопка; они имели свой храм и ритуал; им был отведён особый зал во дворце правителя, носивший название quauhcalli; члены общества пользовались большим влиянием в совещаниях по вопросам войны и мира; наконец, все их привилегии были наследственными. [40]
Особую роль играли «воины-орлы» на ежегодном празднестве ацтеков Тлакашипеуалистли. [41] Одной из существеннейших частей этого праздника было ритуальное сражение между пленными и «воинами-орлами». Так как для битвы пленные получали вместо меча палку, украшенную перьями, и лёгкий деревянный щит, а их противники имели настоящее
оружие, то исход сражения был предопределён заранее. Однако, по свидетельству того же Саахуна, иногда мужество и силы пленников были настолько велики, что борьба продолжалась несколько часов и, чтобы закончить её, с ацтекской стороны выступало уже несколько человек против одного. Испанские завоеватели, ознакомившись с этим обрядом, довольно удачно назвали его sacrificio gladiatorio — «гладиаторским жертвоприношением». Сами ацтеки именовали это сражение on acoquixtilo yn quauhtecatl, т.е. буквально «посылание орлиного человека наверх (на небо)», потому что пленные, участвовавшие в нем, назывались cuauhtecá — «орлиные люди». [42] Во Флорентийском и других кодексах мы встречаем изображения этих ритуальных сражений.
Из памятников изобразительного искусства мы достаточно хорошо можем представить себе одежду «воинов-орлов». [43] Она состояла из шлема в виде головы орла, украшенного пучком длинных перьев, плаща из орлиных перьев, серёг и других украшений. [44] В ацтекских рукописях (Льенсо де Тлашкала, Мендосы, Нэттолл, Флорентийский кодексы и др.) часто встречаются изображения этих одеяний, подносившихся в качестве дани побеждёнными племенами. О скульптуре в Мексиканском национальном музее истории уже было упомянуто выше. В одной описи отправленных в Испанию вещей среди прочих упоминается и «золотой шлем с клювом орла, покрытый различным золотым шитьём (подразумевается, очевидно, техника ложной филиграни), с султаном из синих и длинных зелёных перьев». [45] Но эти шлемы, очевидно, носились только в особо торжественных случаях, на празднествах или в бою. В обычное время шлем заменялся ремнём с кистями из таких же орлиных перьев.
Среди подарков, которые «воин-орёл» получал от Монтесумы, упоминаются какие-то неопределённые золотые фигурки, носившиеся на ремне. [46] Тобар, автор кодекса Рамирес, описывая события во время правления Монтесумы II, пишет: «Имелся орден рыцарей, называемых орлами и другой — львов или тигров. Им дозволялось носить прекрасно выработанные и богато украшенные одежды и плащи из хлопка, а также драгоценности из золота и серебра». [47] Мы вправе предположить, что эти золотые вещи изображали орлов. Действительно в цитированных выше инвентарных описях захваченных вещей неоднократно фигурируют золотые изображения орлиных когтей, [48] голов, [49] браслеты с орлиными когтями, [50] перстни с изображениями орлов [51] и др. Особенно многочисленны литые фигуры орлов, [52] часто украшенные полудрагоценными камнями.
К сожалению, ни один экземпляр из этих замечательных произведений древнемексиканского ювелирного искусства не сохранился, насколько мне известно, в каких-либо европейских музеях. При раскопках и благодаря случайным находкам было обнаружено несколько таких или подобных им украшений, [53] но количество их, как видно из приводимого ниже перечисления, ничтожно.
Несомненно, все упомянутые выше вещи являлись принадлежностями парадной одежды «воинов-орлов». Поэтому представляется вполне возможным, что публикуемая вещь также предназначалась как знак отличия для одного из этих воинов. Поскольку, однако, перечисленные вещи упоминаются в описях неоднократно, а чего-либо подобного эрмитажной не встречается в описаниях и не было обнаружено при раскопках, то допустимо предположение, что наш экземпляр уникален не только сейчас, но и был уникальным в момент своего изготовления. Исходя из этого, мы можем, думается, заключить, что он предназначался для предводителя «воинов-орлов» и был одним из его отличительных знаков.
Стилистические особенности, присущие публикуемому памятнику (трактовка лица воина, его рук и др., отмеченная чертами реализма), не совпадают со стилем, известным нам по раскопкам в Мексике ювелирных изделий сапотекско-миштекского происхождения, как например упоминавшийся выше бубенец с изображением летучей мыши из Коиштлахуака. [54] Эта стилистическая разница является добавочным доводом в пользу определения эрмитажного украшения как произведения ацтекских ювелиров. На это же указывает, по-нашему мнению, и стилистическая близость между ним и памятниками мелкой ацтекской пластики из камня, керамики и дерева, в частности хранящимися в собраниях Музея антропологии и этнографии.
[1] Перечисление наиболее выдающихся памятников ювелирного искусства древней Мексики, дошедших до нас, см.: M.H. Saville. The goldsmith’s art in ancient Mexico (в серии «Indians Notes and Monographs»). New York, 1920; S. Tоsсano. Arte precolombino de México y de la America Central. Mexico, 1944, стр. 517-541; S.K. Lothrop. Metals from the Cenote of Sacrifice, Chichen Itza, Yucatan. (Memoires of the Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, v. X, №2). Cambridge, Mass., 1952; C.H. Aguilar Piedra. La orfebrería en el México precortesiano. Acta Antropológica, t. II, №2, Mexico, 1946.
[2] На основании данных радио-карбонного анализа период Чавин датируется 715±200 г. до н.э. См.: J.Н. Arnold and W.F. Libbу. Radiocarbon dates. Institute; for Nuclear Studies. Univ. of Chicago, 1950, стр. 14.
[3] В данной работе рассматривается только территория центральной и южной Мексики, на которой находились племена нахуа, сапотеков и частично майя. Наиболее древним изделием из золота, найденным на территории центральной Мексики, является золотой чеканный диск из Тешмилинкана, штат Герреро (C.H. Aguilar Piedra, ук.соч., стр. 53, 72 и табл. 9), относимый большинством исследователей к тольтекскому периоду. На территории майя самая древняя золотая вещь была найдена под фундаментом стелы II в Копане (дата сооружения стелы — 9.17.12.0.0, т.е. 782 г. н.э.); она представляет собой часть статуэтки человека. Стилистические особенности этого памятника определённо указывают на его происхождение из Панамы. Об обработке золота и других областях Центральной Америки см. цитированные выше работы К. Агиляра и С.К. Лотропа, а также указанную в них литературу по этому вопросу.
[4] См. подробное обсуждение данного вопроса в указанной выше работе С.К. Лотропа (стр. 7-9), а также его же статью «Peruvian Metallurgy» в «The Civilizations of Ancient America» (Selected Papers of the 29-th International Congress of Americanists. Ed. by Sol Tax. Cambridge University Press, 1952, стр. 219-223).
[5] К. Маркс и Фр. Энгельс, Сочинения, т. XVI, стр. 442.
[6] Lopez de Gomara, Crónica, cap. 26.
[7] S.К. Lоthrop. Metals…, стр. 9, табл. II.
[8] От всего колоссального богатства, захваченного испанскими конкистадорами в Мексике, и Европе сохранилось лишь три вещи: золотое губное украшение в Турине, головной убор из перьев, украшенный золотыми бляшками (так называемый убор Монтесумы), в Вене и маленькая фигурка из нефрита с золотыми серьгами во Флоренции.
[9] De nuper… repertis insulis, simulatque incolarum moribus, R. Petri Martyris. Basileae, 1521, стр. 37-38.
[10] Albrecht Dürers schriftlicher Nachlaß. Herausg. Ernst Heidrich. Berlin, 1908, стр. 47-48. [Добавление сайта: «Также я видел вещи, привезённые королю из новой золотой страны: солнце из чистого золота, шириною в целую сажень, такую же луну из чистого серебра той же величины, также две комнаты, полные редкостного снаряжения, как-то: всякого рода оружия, доспехов, орудий для стрельбы, чудесных щитов, редких одежд, постельных принадлежностей и всякого рода необыкновенных вещей разнообразного назначения, так что это просто чудо — видеть столько прекрасного. Всё это очень дорогие вещи, так что их оценили в сто тысяч гульденов. И я в течение всей своей жизни не видел ничего, что бы так порадовало моё сердце, как эти вещи. Ибо я видел среди них чудесные, искуснейшие вещи и удивлялся тонкой одарённости людей далёких стран. И я не умею назвать многих из тех вещей, которые там были» (цит. по: А. Дюрер. Дневники, письма, трактаты. Т. I. Л.-М.: «Искусство». 1957. С. 118)]
[11] Тексты описей приводятся в цитированных выше работах М. Севилла, (стр. 56-102), Агиляра (стр. 91-119), а также в исследовании: A. de Valle-Arizpe. Motes de Platería. México, 1941.
[12] Р.В. Кинжалов. Ольмскская статуэтка Эрмитажа. Сообщения Гос. Эрмитажа, VI, 1954, стр. 30.
[13] Catalogue of Extensive Archaeological Collection М. Eugène Boban comprising antiquities of Mexico, Guatemala, Central and South America, Egypt, Greece, Home and Gaule, New York, 1886.
[14] К. Агиляр делит все известные нам по находкам в Мексике экземпляры бубенцов на три группы: А, В и С — и каждую из них подразделяет на несколько подвидов. По его классификации, эрмитажный бубенец должен быть отнесён к группе А2 (C.H. Aguilar Piedra, ук.соч., стр. 25-32).
[15] По общему облику эрмитажный памятник ближе всего стоит к золотому нагрудному украшению, происходящему из Коиштлахуака (штат Оахака) и хранящемуся в настоящее время в городском музее Оахаки (C.H. Aguilar Piedra, ук.соч., табл. 9). Это украшение представляет собой крупный бубенец, увенчанный объёмным
(208/209)
изображением летучей мыши; к задней стороне головы её прикреплен почти такой же, как и у эрмитажного воина, султан из перьев. Однако и по стилю и по технике исполнения предмет из Коиштлахуака сильно отличается от публикуемого нами памятника и стоит значительно ниже последнего по художественному уровню.
[16] M.H. Saville, ук.соч., стр. 145-146.
[17] Бернардино де Саахун (Bernardino de Sahagun, год рождения неизвестен, ум. в 1590 г.). — испанский священник, серьёзно интересовавшийся историей древней Мексики. После своего прибытия в Мексику в 1529 г. он начал энергично собирать материалы по интересовавшему его вопросу и в период с 1558 по 1569 г. написал работу «Historia general de las Cosas de la Nueva España» («Всеобщая история вещей Новой Испании»). В этом монументальном труде содержатся неоценимые сведения по истории и культуре народов Мексики до испанского завоевания. Для написания его Саахун привлёк большое количество информаторов из числа старых индейцев, состоявших при коллегии в Тлалтелолко (часть ацтекской столицы Теночтитлана). Первоначальный текст «Всеобщей истории» был написан на ацтекском языке (впоследствии Саахун составил сокращённое изложение её на испанском), а иллюстрации к ней (так называемый «Флорентийский кодекс») были сделаны индейскими художниками. Эти обстоятельства создания труда Саахуна определяют его большую научную ценность по сравнению с работами других хронистов, часто черпавшими свои сведения по мексиканским древностям из вторых и третьих рук.
[18] Рукопись эта воспроизведена в издании: А. Рeñafiel. Monumentos del Arte Mexicano Antiguo, t. II. Berlin, 1890, табл. 228-259. К этому важнейшему источнику по экономике ацтекского общества автор надеется вернуться в специальном исследовании.
[19] Предлагаемый перевод сделан с ацтекского текста по изданию Э. Зелера: Fray Bernardino de Satiagun. Stuttgart, [1927], стр. 369-373. В толковании отдельных мест я расхожусь с имеющимся переводом этого отрывка на французский язык, данным Зелером в его статье «L’Orfèvrerie des Anciens Mexicains et leur Art de Travailler la Pierre et de Faire des Ornements en Plumes» (Ed. Seler. Gesammelte Abhandlungen zur Amerikanischen Sprach- und Alterthumskunde, Bd. II. Berlin, 1904, стр. 620-634). Английский перевод, приводимый М. Севиллом (М.Н. Seville, ук.соч., стр. 125-141) и С.К. Лотропом (S.К. Lоthrop. Metals…, стр. 16-19), малоудовлетворителен, так как является третьей ступенью от подлинника (с ацтекского на немецкий, с немецкого на французский и с французского на английский). Ацтекский подлинник написан ритмизованной прозой, распадающейся на периоды, отмечаемые в нашем пере-
(211/212)
воде, как и у Зелера, поставленной в начало цифрой. Так как ритмический характер текста у Саахуна не связан непосредственно с излагаемым материалом, то я не счёл необходимым сохранять его в предлагаемом переводе, преследующем чисто исторические, а не литературоведческие задачи. О характере ацтекской ритмической прозы см. интересное исследование: J.Н. Cornyn. Aztec Literature. Actas del XXVII Congreso Internacional de Americanistas, t. II, Mexico, 1947, стр. 322-336; см. также: Изв. Академии наук СССР, Отд. литературы и языка, т. XI, №2, 1952, стр. 179-180 [Кинжалов Р.В. [Рец. на кн.:] Schoembs J. Aztekische Schriftsprache. Heidelberg: Carl Winter, Universitätsverlag. 1949. 212 S. (Bibliothek der allgemeinen Sprachwissenschaft / Hrsg. von H. Krahe, Dritte Reihe, Darstellungen und Untersuchungen aus einzelnen Sprachen).].
[20] Ювелиры — teocuitlatzotzonque — буквально «златокузнецы» или teocuitlapitzque — «златолитейщики».
[21] Под углем здесь, конечно, подразумевается упомянутая выше масса из угля и глины.
[22] Т.е. при вырезании.
[23] Копал — смолистое вещество, выделяемое деревом Protium copal Eng.
[24] Здесь под углем следует, очевидно, понимать сделанную из угля и глины форму и её оболочку.
[25] Т.е. в употреблении было только самородное серебро.
[26] Определение «красная» прибавлено к слову «медь», чтобы отличить её от железа, которое ацтеки после знакомства с ним при испанцах назвали «чёрной медью».
[27] Интересная интерпретация этого текста Саахуна дана в статьях: Dudley Т. Eаsby Jr. 1) Sahagun Reviviscit in the Gold Collections of the University Museum. University Museum Bulletin published University of Pennsylvania, t. 20, №3, Philadelphia, 1956, стр. 2-15; 2) Sahagun y los orfebres procolombinos de México. Anales Instituto nacional de antropología e historia, t. IX, México, 1957, стр. 85-117.
[28] S.К. Lоthrop. Metals…, стр. 11, 14, табл. III, VII.
[29] Diod. Sic., II, гл. 12-14. Ср.: И. Лурье, К. Ляпунова, М. Матье, Б. Пиотровский, Н. Флиттнер. Очерки по истории техники древнего Востока. Изд. АН СССР, Л., 1940, стр. 168-169.
[30] Р. Вergsøe. The gilding process and the metallurgy of copper and lead among the pre-Columbian Indians. Ingeniørvidenskabelige Skrifter, №A46, København, 1938, стр. 49.
[31] Большой и очень интересный материал по анализу древнеамериканских золотых вещей собран и обработан в исследовании: P. Rivet et Н. Arsandauх. La métallurgie en Amérique précolombienne. Université de Paris, Travaux et mémoires de l’Institut d’ethnologie, Paris, 1946, стр. 34-81.
[32] Fray Toribio de Motolinia. Historia de los Indios de la Nueva España. Collección de Documentos para la Historia do México publicada por Joaquín Clarcía Icazbalceta, t. I, México, 1858, гл. XIII, стр. 212-213.
[33] Большой и интересный материал о социальном положении ацтекских ювелиров, их празднествах, торговле драгоценностями и др., естественно, не мог войти в данную работу как не относящийся прямо к рассматриваемой теме. Интересующихся отсылаю к цитированной выше работе Севилла и к книге Дж. Вайян «История ацтеков» (Изд. иностр. лит., М., 1949, стр. 101, 107, 113-115, 166 и др.).
[34] Ср. интересную терракотовую фигурку, изображающую воина в таком же шлеме, опубликованную в работе: D. Сharnay. Les anciennes villes du Nouveau Monde. Paris, 1885, стр. 141.
[35] Принятый в иностранной литературе термин «рыцарь», конечно, не может быть применён советскими историками к представителям ацтекского общества как термин, характерный только для феодальной формации.
[36] В. de Sahagun, ук.соч., стр. 320-327.
[37] Следует отметить, что делалось определённое различие по той местности, откуда происходили пленные: так, например, воин, захвативший в плен даже десять хуастеков, не получал никаких особых почестей. Наоборот, приведшему хотя бы пять человек из Уэшоциико, Атлишко или Тлилиукитепека, оказывались необычайно высокие почести, и он получал звание «великого старшего брата».
[38] Дуран (D. Duran. Historia de los Indios de Nueva España, t. II. México, 1867-1880, стр. 163-164) считает, что «воины-орлы» и «воины-ягуары» объединялись в одно военное общество.
[39] О культе орла у первобытных народов см.: Л.Я. Штернберг. Первобытная религия в свете этнографии. Л., 1936, стр. 112-127. О значении орла в ацтекском культе можно уже судить по тому, что ритуальная чаша, в которую клались сердца принесённых в жертву, называлась quauhxicalli — «орлиная чаша», а сами сердца — quauhnochtli — «орлиный плод»: В. de Sahagun, ук.соч., стр. 63. Подробнее об этом см. работу Э. Зелера «Quauhxicalli, die Opferblutschale der Mexikaner» (Ed. Seler. Gesammelte Abhandlungen…, Bd. II, стр. 704-716).
[40] Fr. Кatz. Die sozialökonomischen Verhältnisse bei den Azteken in 15 and 16. Jahrhundert. Ethnographisch-Archäologische Forschungen, III, 2, Berlin, 1956, стр. 145- 148.
[41] В обрядах Тлакашипеуалистли участвовали также и «воины-ягуары».
[42] В. de Sahagun, ук.соч., стр. 61-76, 334-336.
[43] Судя по археологическому материалу, в других раннерабовладельческих обществах Центральной Америки (сапотеки, майя и др.) также имелись подобные военные объединения. См., например, приводимые ниже сапотекско-миштекские золотые вещи и фрески Бонампака: А. Villagra Саleti. Bonampak. La ciudad de los muros pintados. México, 1949.
[44] Более подробно этот вопрос разобран у Зелера: Ed. Soler. Altmexikanischen Schmuck und sozial- und militärische Rangabzeichen. Gesammelte Abliandlungen…, Bd. II, стр. 509-619. Ср.: А. Вandelier. On the art of war and mode of warfare of the ancient Mexicans. Cambridge, Mass., 1880, стр. 117.
[45] M.H. Saville, ук.соч., стр. 74.
[46] В. de Sahagun, ук.соч., стр. 324.
[47] Издано в одном томе с сочинением Тесосомока: Crónica Mexicana escrita por Hernando Alvarado Tezozomoc… anotada por J.М. Vigil. México, 1878, стр. 87.
[48] M.H. Savillо, ук.соч., стр. 71.
[49] Там же, стр. 67 и др.
[50] Там же, стр. 82.
[51] Там же, стр. 99 и др.
[52] Там же, стр. 59, 70, 74, 83, 97-100 и др.
[53] Кольцо с головой орла, из штата Оахака, точнее место находки неизвестно (М.H Savillе, ук.соч., табл. III, с, d); серьга с головой орла, окрестности г. Теуантепека (там же, табл. VI, b); великолепная подвеска в виде головы орла, Хукила, штат Оахака (там же, табл. XVIII, а, b); кольцо с фигурой спускающегося вниз орла, Монте-Альбан, могила 7 (S. Toscane, ук.соч., стр. 527). Особенно интересны несколько маленьких изображений орлиной головы с раскрытым клювом, из которого выглядывает лицо воина, т.е. почти буквально повторяющие верхнюю часть эрмитажного бубенца. Эти орлиные головки, найденные в могиле близ Сан Антонио дель Альто, имеют на задней стороне но два отверстия, по-видимому для нашивки их на одежду (М.H. Savillе, ук.соч., стр. 174). Совершенно очевидно, что эти бусы или пуговицы являлись частью украшений «воина-орла».
[54] Стилистически близкими к эрмитажному памятнику являются небольшой золотой бубенец с изображением человеческой фигуры из Национального исторического музея в Мехико (J. Рijoan. Summa Artis, Historia general del Arte, t. X. Madrid. 1946, рис. 370) и золотая статуэтка ацтекского правителя Тисока (Pal Кelemen. Medieval American Art, t. II. New York, 1944, табл. 231, b).
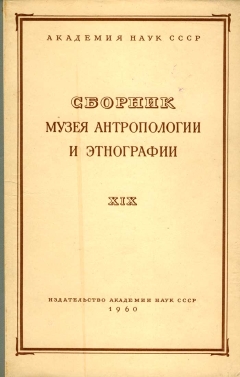 Р.В. Кинжалов
Р.В. Кинжалов




