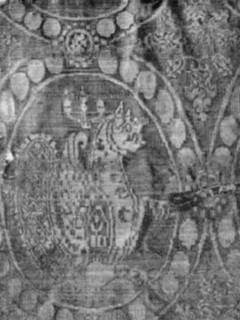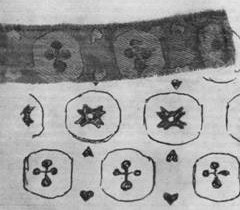А.А. Иерусалимская
Археологические ткани как датирующий материал.
// Проблемы хронологии памятников Евразии в эпоху раннего средневековья. / КСИА. Вып. 158. М.: 1979. С. 114-120.
Ткани, в первую очередь шёлковые, обладают в качестве датирующего материала рядом несомненных достоинств, а иногда даже преимуществ по сравнению с другими видами археологических находок.
Относительная недолговечность суживает границы бытования тканей — в особенности если это одежда — и делает их в этом смысле более надёжным датирующим фактором, чем, например, «долгоживущие» золотые монеты или драгоценные украшения.
Далее, особая роль шёлка в эпоху раннего средневековья, когда он приравнивался по стоимости к золоту, создает порой благоприятные условия для установления «родословной» некоторых знаменитых шёлковых тканей. Это не только помогает атрибуции данного шёлка, но и делает его как бы эталоном для других, близких по стилю и технике. Так, знаменитый византийский шёлк из Мозака с изображением конного императора, поражающего льва, был подарен Константином V Пипину Короткому, [1] пожертвовавшему его в собор святого Кальмина. Таким образом terminus ante quem этой ткани определяется датой кончины короля франков — 768 г., a terminus post quem — началом правления названного византийского императора (741 г.). Согласно сохранившейся монастырской документации, рака святого Ламберта в Люттихе была украшена в 705 г. (по другим сведениям — в 718 г.) целым ткацким куском характернейшего согдийского шёлка, [2] что опять-таки определяет дату terminus ante quem для этой и аналогичных ей тканей. Число подобных примеров могло бы быть увеличено.
Иногда датировке ткани (или даже целой группы тканей) помогают конкретные исторические события, связанные с её эпохой. Так, например, известно, что египетско-римский «город-люкс» Антиноя, из некрополей которой (беспорядочно раскопанных А. Гайе, вскрывшим за период с 1896 по 1902 г. почти без всякой фиксации 40 тыс. погребений) происходит множество простых и несколько десятков шёлковых фрагментов, был разрушен арабами в 640 г. и никогда более не возрождался. Поэтому типичный образец продукции Антинои, найденный на Северном Кавказе в Хасаутском могильнике (рис. 1), должен иметь, как и все другие ткани этого центра, в качестве terminus ante quem эту дату. С поправкой на возможную длительность «путешествия» этого фрагмента на Кавказ следует, по-видимому, всё же считать, что он очутился в погребении ещё в пределах VII в. (тем более что шёлк использован в одежде, а сохранность его не свидетельствует о длительной носке). Датировка этого шёлка оказывается единственным основанием возводить начало захоронений в Хасаутском могильнике к последней четверти — концу VII в.
Наконец, отдельные образцы средневекового ткачества (чаще всего не старше IX в.) содержат тканные надписи, иногда — с датой (ткань Кливлендского музея с куфической надписью 998 г.), иногда — с именами того или иного политического деятеля (шёлк Музея Виктории и Альберта с именем халифа Мервана, видимо Второго, 744-750 гг.); шёлк Лувра с именем правителя Хорасана Абу Мансура Бухтегина (верхняя дата — 961 г.); серия византийских шелков громадного раппорта с изображением львов и надписями Романа и Христофора (921-931), Василия и Константина (976-1025) и др. Наиболее ранний случай такого рода — шёлковая ткань из раки Мадельберты в Льеже, [3] в орнамент которой включена монограмма императора Ираклия (610-641). Датировка целой серии тканей, группирующихся но технико-стилистическим признакам вокруг этого шёлка, счастливым образом дважды взаимопроверяема: для проис-
(114/115)

Рис. 1. Шёлковый фрагмент из Антинои. Хасаутский могильник.
ходящих из Антинои, как уже указывалось верхней датой является 640 г.; для происходящих из Панаполиса-Ахмима дату определяет находка аналогичной ткани в Астане с документом 643 г.
Во всех рассмотренных примерах имели место идеальные случаи твёрдой датировки тканей. Такие случаи, к сожалению, крайне редки, отчего и в хронологии раннесредневекового текстиля до сих пор существует множество противоречивых мнений и традиционных заблуждений. Порой отсутствие строгой научной методики приводит даже крупных специалистов в области прикладного искусства средневековья к самым фантастическим построениям. Упомянем лишь известного византиниста X. Вентцеля, [4] приписавшего недавно все европейские находки византийских тканей (в число которых попали не только византийские и главное — имеющие бесспорные основания для датировки их VII-VIII вв.) однократной исторической акции: замужеству византийской принцессы Теофано, ставшей в X в. женой императора Оттона. В угоду этой теории была предложена без всяких обоснований тотальная передатировка всего раннесредневекового текстиля. Одна и та же ткань в разных изданиях нередко фигурирует с датировками, отличающимися на два столетия, причем опять-таки без всяких доказательств.
Эта ситуация в значительной мере связана с тем, что перечисленные выше «достоинства» шёлковых тканей как датирующего материала оборачиваются подчас их «недостатками»:
1. Недолговечность тканей обусловила сравнительно небольшое количество сохранившихся во всем мире образцов, что создаёт обрывочный характер наших знаний и затрудняет создание типологических рядов (северокавказские находки являются в этом отношении уникальным явлением).
2. Высокая ценность шёлка привела к специфическим формам его существования в Европе, которое в сущности нельзя назвать «бытованием», но нарочитым сохранением в особых условиях и при особом отношении, что может значительно растягивать «срок жизни» того или иного экземпляра, не говоря уже о легендарных родословных, порождаемых такими своеобразными формами использования шёлка и дающих ещё больший простор для произвольных датировок.
Так, знаменитый византийский шёлк с «охотой Бахрама Гура» [5] датируется в пределах от VI до IX в. в зависимости от того, например, ориентируются ли исследователи на версию о том, что миланский экземпляр этого шёлка (из собора Сант-Амброджио) происходит из гробницы святого Амброзия (куда он был якобы помещён в VI в.), или на версию, что шёлк этот изначально, будучи ещё новым, украшал соборный алтарь работы Вольвиниуса 835 г. (так же как был новым другой вариант того же шёлка, использованный в качестве переплета Пражского Евангелия
(115/116)
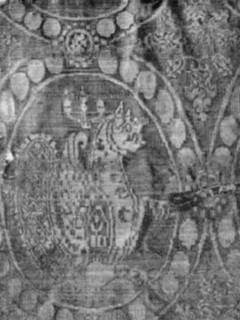
Рис. 2. Шёлк «с сенмурвами» (деталь кафтана). Мощевая Балка.
IX в.). Между тем особенности стиля и техники этой ткани чётко связывают её с памятниками конца VII — начала VIII в., чему соответствует и находка её в могильнике VIII-IX вв. Мощевая Балка, и типологическое место в ряду датированных европейских образцов. [6] При этом в любом случае почти век отделяет момент изготовления ткани — или первого из её вариантов — от использования её для Пражского Евангелия или в алтаре собора Сант-Амброджио. Что следует в таком случае предполагать: длительность ли использования или длительный выпуск тканей с этим изображением?
Ещё один пример: столь же известный, как только что описанный, «шёлк с сенмурвами» (из собора Сен-Ло) [7] был датирован VI-VII вв., исходя из сасанидских изображений — прежде всего одежды Хосрова II
(116/117)
на рельефе из Так-и Бостана. Шелка с этим сюжетом действительно ткались в сасанидском Иране — это не вызывает, разумеется, никаких сомнений. Однако, отождествление с ними шёлка из Сен-Ло оказалось несостоятельным: новые находки аналогичных тканей (рис. 2), [8] составляющих все вместе единую группу, бесспорно доказали, что все эти ткани изготовлены уже в постсасанидскую эпоху, не ранее VIII в. Сюжет этот продолжает существовать и в ещё более позднее время: давно известна очень эклектичная византийская ткань XI в., где он присутствует среди других (также «сасанидских») мотивов. [9] Недавно маленький фрагмент шёлка с сенмурвами найден в Шпейере, в гробнице Филиппа Швабского (XIII в.). [10] Мы сталкиваемся тем самым с основной проблемой, затрудняющей датировку раннесредневековых тканей (а следовательно, и использование их для хронологизации археологических комплексов), а именно, с фактом механического способа воспроизведения ткацкого рисунка на многоремизном станке, что создаёт возможность длительного существования каких-то типов узоров, а также передачи «во времени» и «в пространстве» готовых рецептур заправки станка. Это облегчало и возвращение старой моды на какие-либо сюжеты или орнаменты — правда, всегда исторически обусловленные.
В таких случаях, кроме скрупулезного стилистического анализа, на помощь может прийти исследование техники изготовления тканей. Так и в разобранном примере: фрагмент с сенмурвами из Шпейера оказался выполненным в технике «лампас», появившейся не раньше XI в. Анализ ткацкой техники вообще приобретает в последние годы всё большее значение, главным образом благодаря координирующим работам Международного центра по изучению древнего текстиля (CIETA) в Лионе. Существенная роль в этих работах принадлежит Г. Виалю, который успешно развивает предложенный ещё в 40-х годах нашего века Ф. Гюише метод реконструирования типов древнего станка на основании изучения ткацких ошибок. В результате выявлен ряд объективных критериев оценки того или иного образца, позволяющих расставить некоторые хронологические вехи в связи с появлением тех или иных усовершенствований в станке. Так, связанная с многоремизным станком техника «самит» возникает не ранее VI в.; приспособление, регулирующее работу бердо (создающее относительную стабильность размеров раппорта) — не ранее X в.; «лампасная» техника — с XI в. и т.д., вплоть до появления жаккардовой машины.
В этой связи следует, по-видимому, относиться с осторожностью к прямым отождествлениям реально сохранившихся тканей и изображений тканей на различных памятниках. В отношении тканей с сенмурвами этот метод привёл, как мы видели, к ошибке в одно или два столетия в датировке шёлка. В той же степени возможны и обратные ошибки — при датировке изображения на рельефе или фреске на основании ткани. Не имея возможности детально изучить изображённую ткань ни с точки зрения стиля, ни тем более в отношении техники, нельзя твёрдо сказать, например, изображена ли в Пенджикенте «ткань с пегасами» типа найденных в Антиное (как это, по-видимому, имеет место на фресках Афрасиаба), [11] или поздняя византийская копия таких шелков, известная по «краснофонной ткани с пегасами» VIII в. из Ватикана. [12]
Резюмируя всё изложенное, подчёркиваем, что мы не отрицаем возможность привлечения тканей в качестве датирующего материала вообще, но лишь излагаем все трудности, с которыми приходится при этом сталкиваться.
При обоснованной датировке, при учёте всей информации относительно обстоятельств находки (включая характер использования, степень изношенности и т.д.) ткань может порой играть весьма существенную роль при корректировке даты археологического комплекса.
Помимо «хасаутского» шёлка из Антинои, приведём в заключение ещё
(117/118)
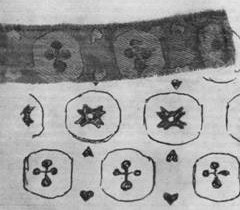
Рис. 3. Фрагмент шёлка египетского производства. Верхнечирюртовский могильник.
два примера, когда шёлковые ткани оказывают ощутимое влияние на датировку.
1. Шёлк египетского происхождения, декорировавший одежду из погребения 53 Верхнечирюртовского бескурганного катакомбного могильника (рис. 3), [13] принадлежит к рассмотренному выше типу «западных» шелков, для которых перекрёстными датировками установлена верхняя дата 640-643 гг. Учитывая, что ткань находилась в интенсивной и, видимо, длительной эксплуатации, этот хронологический рубеж следует, по-видимому, передвинуть на несколько десятилетий вперёд, отнеся вероятный период, когда ткань попала в погребение, к концу VII в. Факт этот в данном случае немаловажен, поскольку для других датирующих находок из этого могильника (золотых сасанидских и византийских монет середины VII в., позднесасанидских ложных перстней) [14] можно предполагать достаточно протяжённую дату. Полученная датировка может быть в известной степени распространена на большую категорию металлических изделий, встреченных с данной тканью или в сочетании с предметами этого комплекса и имеющих в то же время ясные соответствия в памятниках нижнего слоя Сууксу.
2. Погребальный инвентарь женского погребения из Мощевой Балки, очень стандартный для этого могильника (глиняный кувшинчик, деревянный ковш, плетёная шкатулка, железные тесло с рукоятью и ножик в ножнах, зеркало, типичный набор бус), [15] давал возможность лишь для широкой датировки VIII-X вв. Однако декорировавшие одежду ткани позволяют сузить датировку комплекса. Шёлковая ткань с орнаментом в виде трилистника (типа карточных «треф»), [16] почти распавшаяся, декорировавшая шапочку и диадему погребённой, принадлежит к той же группе византийско-египетского импорта, что и «верхнечирюртовская». Степень её изношенности свидетельствует о ещё более длительной носке и заставляет отнести её дату в этом комплексе, очевидно, уже к VIII в. Другой шёлк — с двойными секирами (в трёх вариантах) — украшал
(118/119)

Рис. 4. Инвентарь из погребения девочки. Мощевая Балка.
шубу и платье погребённой. Эта ткань (согдийская или местная) принадлежит к числу наиболее распространённых на Северном Кавказе, что позволяет чётко представить типологию их орнамента и техники. Одна из наиболее поздних её разновидностей представлена мешочком из Эшкакона (IX в.). [17] Более близкий рассматриваемому типологический вариант ткани украшал платье из погребения девочки в Мощевой Балке (рис. 4), где встречены индикации византийских монет первой половины VIII в. По всей вероятности, шёлк из женского погребения датируется временем не позднее второй половины VIII в., а его прекрасная сохранность не свидетельствует о длительном использовании. Таким образом, дата рассмотренного погребения — по-видимому, конец VIII в. или, самое позднее, начало IX в.
Приведённые примеры показывают, что ткани могут оказываться достаточно надёжным хронологическим показателем, но лишь при условии критического отношения и всестороннего изучения.
(119/120)
[1] Музей истории тканей в Лионе. По другим данным, этот дар был приурочен уже к погребению Пипина Короткого. См.: Micheaux R., de. Le tissu de Mozac.— Bulletin de liaison du CIETA, n° 17, 1963; Falke O. Kunstgeschichte der Seidenweberei. Berlin, 1921, Taf. VIa. В дальнейшем читатель будет отсылаться именно к этому сводному изданию, как наиболее доступному.
[2] Льеж, музей Диозесан. Иерусалимская А.А. К сложению школы художественного шелкоткачества в Согде. — В кн.: Средняя Азия и Иран. Л., 1972, с. 10, рис. 2.
[3] Музей Диозесан, фрагменты — в Ватикане, Марбурге, Дюссельдорфе. Falke О. Kunstgeschichte..., Abb. 201; Volbach W.F. Il tessuto nell’Arte Antica. Milano, 1966, n° 53, 54.
[4] Wentzel H. Das byzantinische Erbe der Ottonischen Kaiser.— Aachener Kunstblätter, 43, 1972, S. 11-96.
[5] Иерусалимская А.А. Ткань с Бахрамом Гуром из могильника Мощевая Балка. — Труды ГЭ, V, 1961, с. 40-50.
[6] К середине IX в. один из образцов этого шёлка (из собора в Реймсе) был уже настолько ветхим, что его использовали в качестве набивки подушки святого Реми. См.: Bulletin de liaison du CIETA, n° 15, 1962, p. 48.
[8] В Реймсе (покров и уже упоминавшаяся подушка святого Реми; последняя — с вышитой надписью, определяющей в качестве поздней даты 852 г.), в Сан Сальваторе (Италия) и в Мощевой Балке (на террасе, не имевшей могил другого периода, кроме VIII-IX вв.). См.: Jeroussalimskaja A, Le kafetan aux simourghs du tombeau de Mochtchevaja Balka (Caucase Septentrional). — In: Studia Iranica, 1978, t. 7, f. 2, p. 183-226.
[9] Falke O. Kunstgeschichte..., Abb. 171, S. 24.
[10] Müller-Christensen S., Kubach H.E., Stein G. Die Gräber im Königschor. «Der Dom zu Speyer». — In: Die Kunstdenkmäler von Rheinland-Pfalz, Bd V. Deutscher Kunstverlag, 1972, S. 962, № 1511.
[11] См. об этом: Иерусалимская А.А. К сложению школы..., с. 38-40.
[12] Falke O. Kunstgeschichte..., Abb. 175.
[14] Путинцева Н.Д. Верхнечирюртовский катакомбный могильник. — В кн.: Материалы по археологии Дагестана, т. II. Махачкала, 1964.
[15] Раскопки Е.А. Милованова. Одежда передана в ГЭ, остальной материал — в школьном музее пос. Курджиново Урупского р-на.
[16] Абсолютно аналогичную см.: Иерусалимская А.А. Западные ткани..., с. 48, рис. 10.
[17] Кузнецов В.А., Рунич А.П. Погребение аланского дружинника IX в. — СА, 1974, № 3, с. 196-203.
|