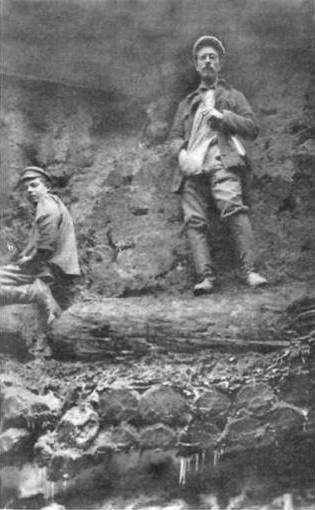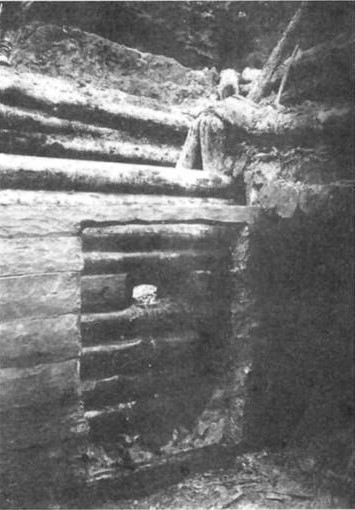|
М.П. Грязнов. Пазырык. 1929 г.(Открыть в новом окне) |
Пазырык. Раскопки 1929 г.(Открыть в новом окне) |
с собой сахар, так как чай все пили с сахаром, мы себя не стесняли, а когда он кончился, пошли покупать в магазин, но, когда в другой раз пошли покупать, то оказалось, купить невозможно, так как мы скупили весь годовой запас сахара. Дело в том, что алтайцы потребляют очень мало сахара, у них кусочка сахара хватает на несколько дней, а мы привыкли по 3 куска в стакан класть, и в результате мы за очень короткий срок съели весь сахар. Ну, а других продуктов там никаких не было: ни хлеба, ни овощей.
Удивительное дело, там не оказалось никаких съедобных грибов, чтобы нам пополнить свой скудный стол. Но, как известно, грибы любые можно есть, если их отварить и отвар вылить. Поэтому мы собирали грибы любого цвета, любой формы, отваривали и ели. Иногда это было ничего, а иногда не очень вкусно, зато хоть какая-то растительная пища. А так ведь у нас, кроме хлеба и мяса, ничего не было.
М.Н. Клубники было много. Я варила варенье клубничное. А когда только что сваренное варенье в ковшике спустишь в раскоп на лёд, оно сразу застывает. Очень вкусное было. Я была главный раскопщик в камере. Конечно, было очень трудно. Мне помогала там одна студентка Доскач, она поехала со мной на практику по антропологии. И у меня были средства на антропологию, 900 рублей, кажется. Но когда я увидела все эти роскошные находки, то эти деньги передала археологической экспедиции, а сама осталась без своей работы по антропологии.
Однажды был случай. Могила была очень глубокая, что-то около 7 метров, кругом мерзлота, северная сторона. Мы со студенткой были внизу, копали, с нами был ещё музейный работник Василий Степаныч. Я была в середине. Вдруг слышу, что алтайцы наверху что-то бормочут и кричат: «Ай-яй-яй». Я гляжу, а вся эта масса — земля, камни — на нас стекает. Я схватила одной рукой
одного, другой — другого, оттянула, и мы побежали к противоположной стенке, а здесь это всё рухнуло. Если бы это всё упало на нас, то нас бы не скоро откопали, так что благополучно обошлось. Вот, и такие были вещи. А потом, действительно, всё это выбрасывать снова наверх очень тяжело. А делать надо, раскопки были довольно длительные, оттаивали-то из чайничка всё. И никуда не денешься.
Все эти сёдла, все вещи лежали под лошадьми, а туда трудно было попасть с горячей водой. На каких-то находках были яркие краски, когда мы их вытаскивали, а потом на солнце они теряли свою яркость. А Михаил Петрович наверху расправлял всякие ремешки, рассматривал, как и что, и занимался консервацией.
М.П. Важно было вот что: кожаные изображения, аппликации при высыхании очень сильно деформируются. Поэтому надо было, пока они не изменились, перерисовать на кальку. Ведь если сравнивать, какие эти вещи на рисунках в изданиях и какие сейчас, в натуре, то разница велика. Несмотря на все старания реставраторов, как бы они ни смягчали кожу, они не смогли восстановить натуральный размер, и рисунки в изданиях очень отличаются от натуральных вещей. Правда, есть способ сохранить и привезти в музей вещи в нормальном состоянии, но об этом я узнал потом. Для этого надо было не высушивать, а посолить, посолить обычной поваренной солью. Реставраторы соль могут легко удалить, а потом уже смягчать кожу. Соль только консервирует, но если там будут медные или железные детали, тут соль навредит.
Теперь о лошадях. 10 мумий верховых коней — это, несомненно, огромная ценность. Но как их сохранить? Ведь они очень быстро сгниют. Несколько недель — и это всё превратится в бесформенную массу. Везти с собой нам было нельзя. Нас уверили, что зимой здесь хороший санный путь, отсюда сначала едут на юг к Чуйскому тракту, а уже оттуда спокойно можно добраться, куда нужно. И мы решили поступить следующим образом: пока сохранить трупы лошадей здесь, рядом с курганом. Вряд ли их кто-нибудь потревожит. Из тех брёвен, что мы вытащили наверх, сделали такую постройку, сруб, но стены не сплошные, а через бревно. Такой сруб продувался очень хорошо. Потом сделали противень, и наши кони будут великолепно продуваться, дождями их не размоет, будут в тени, не будут прогреваться. А поскольку по ночам здесь, когда мы уезжали, была минусовая температура, значит, будут замерзать и должны хорошо сохраниться. Зимой, когда установился санный путь, мы отправили туда нашего молодого сотрудника Василия Степановича Адрианова.
М.Н. Вот раскопки кончились, всё запаковали, как могли. Получился довольно большой багаж, а денег у нас осталось 9 рублей. Хорошо, что у нас наладились добрые отношения с местным населением, с алтайцами. Они очень доброжелательно к нам относились и согласились нас отвезти бесплатно до Телецкого озера — это 90 км. В тот день, когда нам надо было ехать, пригнали лошадей. Нас было 4 человека на лошадях и ещё лошади с тюками. Дорога довольно длинная и достаточно тяжёлая, ведь в горах, кругом громадные валуны, дорожка вьётся между этими валунами. Так доехали до Телецкого озера, поблагодарили их, попрощались, и они поехали обратно. А нам надо переезжать Телецкое озеро, что приблизительно 100 км, и это надо было преодолеть. Посёлка здесь нет, но оказался старик, который должен был перевозить две лодки на тот конец озера. Мы сговорились с ним, что он нас перевезёт туда вместе с нашим грузом даром. Погрузили весь наш багаж. На одной лодке ехал Михаил Петрович с кем-то и старик этот, а на другой ехала я вместе с Василием Степановичем и Карлом Ивановичем, нашим музейным работником. Меня посадили рулевым. А руль — это весло, тут ещё ветер поднялся, волны с гребешками появились. А кругом отвесные голые скалы спускаются прямо в воду, пристать к берегу и переждать непогоду негде, качать стало сильно, опасно стало. Тут Василий Степанович с Карлом Ивановичем кричать на меня стали: «Куда ведёшь, куда правишь!». А я, действительно, никогда рулём-то не владела, но всё равно пришлось плыть, старалась, чтобы поперёк волн лодка шла, а то волной захлестнёт и всё. Так что, я сама уже соображала. Ну, наконец-то увидали маленькую пристань, где были камни, обвал, и мы туда как-то пристали.
М.П. Это не пристань. Это место называется Али-Экспес (?), что в переводе означает «Медведю не пройти».
М.Н. И на это медвежье место мы сели. А кругом отвесные скалы, но всё-таки лодки мы вытащили, и надо было ставить палатки. Верёвки пришлось привязывать не к колышкам, а к камням. Постелили там ветки какие-то, мох, чтобы можно было переночевать. Но ночью вдруг на нас водопад обрушился. Оказалось, наверху где-то дождь пошёл, и ямки, впадинки переполнились водой, и это всё обрушилось ночью на нас. Пришлось нам переселяться. Немного передвинулись. Хорошо, что место было. А то ведь там скалы уходят прямо в воду, голые скалы. По берегам не пройти. На лодках не подойти. Бывали случаи, когда люди просто сидели неделями, а то и погибали, зажатые в таких местах. Так нам рассказывали, по крайней мере. А наверху совершенно дикая тайга. По утрам, как говорят, медведи выходят на берег и ревут.
Ну, на другой день мы проснулись, озеро поутихло, и мы поплыли на другой берег.
В этот день мы и приплыли туда.
Теперь нам надо ехать в Бийск, денег нет, нанимать лошадей не можем. Увидали плоты, решили плыть на плотах. Когда мы туда ехали, я обратила внимание, как мчится Бия, и ещё тогда решила, что по реке не поеду, лучше пешком по берегу. Очень быстрая, стремительная река, если какой камень торчит, то такая волна получается, как воротник какой.
Сговорились с плотовщиками. А плоты такие: делается рама из 4-х брёвен, внутрь накидываются брёвна, а снаружи рамы по бокам кладут ещё по одному бревну для страховки. В случае, если плот ударится обо что-то, то наружные брёвна примут удар на себя, а рама останется целой. Внутри рамы накидывались поперёк сверху 2-3 бревна, чтобы можно было сидеть. Так, на этих брёвнах мы и сидели все, и наша поклажа тут же, и находки. Наши большие ценности ехали так легкомысленно! А другого выхода не было.
Еды у нас не осталось. Только муки ржаной немного и соль. Мы разводили костёр, дрова-то везде находятся. В какой-то кастрюльке варили кашу, без масла, только посолив, так и ели.
Ну вот, мы отвязали эти плоты и помчались, кругом только мелькало все, настолько быстрая река, но сплавлять лес можно было вот такими плотами. Плыли только днём, ночью останавливались. А чтобы остановиться, приходилось трудно. Там четыре плотовщика с длинными вёслами, и они направляют этими вёслами плот. А вечером, ближе к ночи они направляют плот ближе к берегу. Один плотовщик выскакивает с канатом на берег и к какому-то дереву, которое заранее приметили, наматывает канат. А бывало и так, завернул канат за дерево, плот плывёт и вытаскивает и это дерево. Так один раз и было. И плотовщик, который остался там на берегу, явился только к вечеру на место другой стоянки.
Конечно, страшно было ехать. С нами ехала ещё одна женщина, жена кого-то из плотовщиков, с двумя подушками. Так в особо страшных местах она ложилась на подушку, другой закрывала голову и кричала: «Я уже умерла!». Голодные мы были все очень. Вдруг слышится выстрел и недалеко от нас падает подстреленная утка. Конечно, решили, что надо её выловить. Какими-то палками сумели её достать. Ощипали и предвкушали роскошный обед. Но, пока мы это делали, случилось вот что. Там есть такое место. Малый и Большой Иконостас, скалы совершенно отвесные. В этом месте река ударяется в Малый Иконостас и под почти прямым углом несётся к Большому Иконостасу. И в тот момент, когда мы доставали утку, плотовщики тоже зазевались и близко подплыли к Малому Иконостасу, а там рядом отмель. И это тоже опасно: плот начнет крутить, и брёвна могут вылетать, мы можем остаться на отмели просто без плота. Плотовщики тут заорали, засуетились, но всё равно оказались не там, где надо, а это грозило нам хорошим ударом о скалы Большого Иконостаса. Так и вышло. Ведь это происходит всё в один момент, не успеешь опомниться. Река несётся, и вдруг — трах! — плот немного ушёл под воду, какие-то брёвна выскочили оттуда, и когда появился, плот был не четырёхугольным, а ромбом. Так и поехали дальше. Там было много ещё приключений, попадали на отмели, тогда мы все сходили с плота и пихали его в воду. Одна отмель была особенно опасна: на мель сели и начало вымывать брёвна. Одно за другим выскакивали, а мы считали, когда же, наконец, останется два-три бревна, а мы окажемся в воде. Так мы плыли девять суток, вместо полагающихся двух. У нас было восемь аварий. Путь был труден.
М.П. Путь был закончен. Приехали в Бийск.
М.Н. Поели в каком-то ресторане. Сколько мы наголодались! Пили даже какое-то фруктовое вино. А потом пошли в кино.
М.П. Поехали по железной дороге, ехали больше недели. Привезли всё, кони приехали. Всё это было в 1929 году. В декабре была совершена поездка за колодой и трупами лошадей. Привезли. Всё это было в Этнографическом отделе Русского музея.
Однажды мне говорят, что меня спрашивает какой-то гражданин, ждёт меня у подъезда.
Прихожу. Высокий, комплекции Петра I. В странном одеянии каком-то: полувоенном, полуохотничьем, в обмотках, башмаках. «Не узнаёте меня?» — спрашивает. Говорю: «Нет». «Вы обещали мне показать лошадей алтайских». Оказывается, это был наш спутник в поезде, и я, видимо, рассказывал о раскопках, о лошадях и обещал ему, если придет, показать. Показал. Человек был очень доволен, он пришёл к заключению, что это были очень хорошие кони, хотя специалисты коней осмотрели, сам Беленицкий-Бируля — а это известный маммолог, специалист по млекопитающим, директор Зоологического музея — осмотрел, сказал, что это обычная большеголовая лошадка степная. А этот человек говорит, что это роскошные кони. Тогда он просит: «Разрешите, я позвоню своему другу в Москве, пусть он приедет, осмотрит». Через 2-3 дня приехал профессор Витт, наш крупнейший гипполог, специалист по изучению лошадей. А трупы ссохлись, стали небольшими и действительно производили впечатление маленьких большеголовых лошадей. На самом деле это были стройные высокие скакуны типа наших ахалтекинцев с маленькой изящной головой. Но когда труп усох, стал маленьким, голова стала казаться большой. И вот, в течение недели весь персонал нашего ленинградского ипподрома перебывал у нас, смотрел, восторгался этими лошадьми. Затем Витт занялся изучением лошадей и
пришёл к интереснейшим заключениям, касающимся не только алтайских курганов и нас сибиряков, но и происхождения верховых скаковых лошадей вообще. И это ему помогло окончательно решить вопрос, который до сих пор был в тумане. Так, английскую скаковую лошадь вели от арабской на основании имеющихся документов. Во время крестовых походов были привезены из Аравии прекрасные скакуны, которые все были записаны, на всех имелись паспорта. Со времён крестовых походов велись родословные на всех английских лошадей. Казалось, всё было ясно. Но Витту удалось доказать, что крестоносцы привезли хороших коней, золотисто-рыжих скакунов, хотя и из Аравии, но это были не арабские, а это были кони нынешней Туркмении, среднеазиатские. И эти среднеазиатские кони оказались в скифское время на Алтае. Это были те небесные кони, о которых мечтали китайские императоры, которые доставали этих небесных коней из страны Давань из Средней Азии. Это была интереснейшая находка.
Ну, а кто же был этот человек, похожий на Петра I? Я не знаю его дальнейшую судьбу, но это был большой любитель лошадей, бывший конезаводчик. В эти годы он жил не в Ленинграде, он мог только приезжать ненадолго, был не у дел, был лишён своих скакунов, но продолжал любить их. Дружил с крупнейшими гиппологами-специалистами, такими, как Витт. Вот таковы, примерно, некоторые моменты этой эпопеи.
М.Н. Михаила Петровича тогда не было в Ленинграде. Г.П. Сосновский, сотрудник Эрмитажа, устроил выставку. Это было на Международном конгрессе востоковедения в 1934 году. Много было иностранцев, которые очень заинтересовались этой выставкой, бегали, смотрели, жестикулировали, предлагали продать какую-нибудь лошадь. Но Г.П. Сосновский говорил, что раскопщик Михаил Петрович, и решает такие вопросы он. Они все были в восторге от находок. Конечно, замечательные находки, что и говорить!
Через несколько лет В. Равдоникас, заведующий отделом в Эрмитаже, предложил Михаилу Петровичу поехать копать дальше и обещал дать немного денег. Михаил Петрович отказался, сказав, что на такие средства он не может копать. Это можно только грабительски вытащить оттуда вещи и больше ничего. Тогда В. Равдоникас предложил копать С.И. Руденко и тот согласился.
Михаил Петрович начал с С.И. Руденко в Пазырыке копать. Действительно, С.И. Руденко мог только грабительски действовать: когда могилу копал, брал то, что у него в ногах было, и кидал мне наверх, тут и кости попадались. А я сидела и подбирала то, что он вытаскивал из могилы. Это был курган 2. Копали, конечно, скверно. Ему было трудно разобраться при таком способе раскопок. Также были исследованы и другие курганы.
Очень помог разобраться в этой груде вытащенных вещей и костей Михаил Петрович. Он занимался этим, реставрировал, подбирал. Вот, например, коляска. Сначала даже непонятно было, что это такое, а Михаил Петрович собрал ее, она ведь была положена в разобранном виде. А теперь эта колесница (не коляска!) на постоянной выставке в Эрмитаже. Много было таких вещей, которые требовали внимательного отношения к ним. Потом, относительно ковров были расхождения с С.И. Руденко. Вообще, С.И. Руденко был человек смелый и мог взяться за все, что угодно. Ну, спасибо ему за то, что раскопал эти памятники.
Магнитофонная запись сделана Н.А. Боковенко и Л. Скалиной
12.03.82 г. на квартире М.П. Грязнова, В.О., 12 линия.
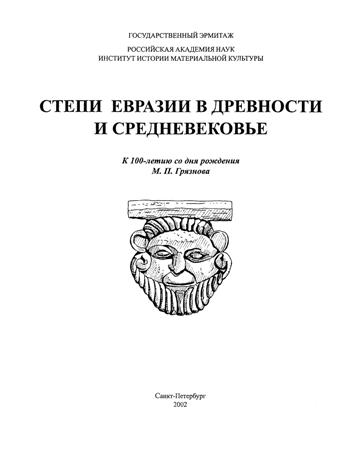 М.П. Грязнов, М.Н. Комарова
М.П. Грязнов, М.Н. Комарова