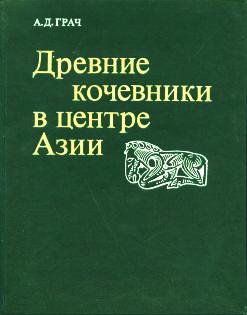 А.Д. Грач
А.Д. Грач
Древние кочевники в центре Азии.
// М.: ГРВЛ. 1980. 256 с., вкладки.
Глава VI. Социальный строй древних кочевников
Центральной Азиии синхронных им племён азиатских степей.
Разработка вопросов социального строя древних кочевников относится к числу комплексных проблем, решаемых на материалах археологии, этнографии, антропологии с привлечением данных нарративных источников. [1] Археологические данные играют при этом весьма важную роль, а привлечение этих данных для социологических реконструкций является давней и прочной традицией отечественной исторической науки.
Изучение социального строя древних кочевников находится в тесной связи с освещением социального устройства кочевников поздних; археологические и этнографические материалы документируют разновременные этапы непрерывного исторического процесса.
М. О. Косвен писал: «В кочевых скотоводческих обществах распад первобытнообщинных отношений идёт быстрее, чем у земледельческих. Скотоводство ведёт к более быстрому и интенсивному образованию богатств, имущественному расслоению, оформлению родоплеменной власти и пр.» [Косвен, 1957, с. 226; ср.: Тереножкин, 1966, с. 43-45]. Это заключение старейшего советского этнографа находится в полном согласии с известными выводами Ф. Энгельса о роли первого великого общественного разделения труда (выделение скотоводства), приведшего в конечном счёте к формированию классового общества, и о том, что именно на стада прежде всего распространилась частная собственность глав отдельных семей скотоводов [Маркс и Энгельс, т. 21, с. 161-162]. К. Маркс отметил, в свою очередь, роль мобильного имущества кочевников в возникновении обмена и денег: «Кочевые народы первые развивают у себя форму денег, так как всё их имущество находится в подвижной, следовательно, непосредственно отчуждаемой, форме и так как образ их жизни постоянно приводит их в соприкосновение с чужими общинами и тем побуждает к обмену продуктов» [Маркс и Энгельс, т. 23, с. 99].
По поводу социального строя скифов Восточной Европы существует ряд концепций, трактующих степень их социального развития от патриархально-родового строя до рабовладения (М. И. Ростовцев полагал даже, что Скифия была феодальным государством) [Лаппо-Данилевский, 1887; Ростовцев, 1925; Готье, 1925, с. 246-247; Смирнов А. П., 1934; Смирнов А.П., 1966, с. 12-15, 140-150; Артамонов, 1947а, с. 63-64; Артамонов, 1947б, с. 70-71; Артамонов, 1948; Артамонов, 1973, с. 56-67; Граков, 1950, с. 7-8; Граков, 1956, с. 9-10; Граков, 1971; Елагина, 1962; Тереножкин, 1966; Хазанов, 1968; Хазанов, 1970; Хазанов, 1972а; Хазанов, 1975]. Анализируя эту проблему, Д. Б. Шелов обоснованно заметил, что дискуссия об общественном устройстве скифов часто ведётся без учёта того, что развитие социальных институтов скифского общества не было неким единовременным явлением. Д. Б. Шелов указал далее: «Если подходить к вопросу о становлении классового общества у скифов, о возникновении скифской государственности с диалектических позиций, то нельзя не признать, что эти явления были не единовременными актами, а длительными процессами вызревания одних общественных форм и отмирания других» [Шелов, 1972, с. 78].
Рассматривая проблемы социального строя племён, населявших территории Средней Азии, Казахстана, Сибири и Центральной Азии в скифское время, мы исходим из того, что исторические процессы, протекавшие в это время на пространствах Великого пояса степей, представляют
(45/46)
собой совокупность диалектически развивавшихся явлений, имевших место на протяжении единого исторического периода. Единство исторических процессов, разумеется, не исключает локального своеобразия явлений. Нельзя также забывать и о том, что темпы развития разных районов скифского мира не были совершенно одинаковы. Под влиянием внутренних причин и под воздействием внешних факторов (контакты и взаимодействие с более развитыми в социально-экономическом отношении цивилизациями) некоторые районы быстрее пережили разложение высшей фазы первобытнообщинного строя. Тем не менее, ясно одно: племена скифского времени, будь то на Западе — в Причерноморье или на Востоке — в предгорьях Саян, Танну-Ола, Хангая, на Енисее и на Алтае, находились на стадии становления классового общества, и внутренние процессы распада старых, первобытнообщинных отношений зашли уже достаточно далеко.
СОЦИАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ДРЕВНИХ КОЧЕВНИКОВ АЗИАТСКИХ СТЕПЕЙ
ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ. ^
При определении социальной квалификации того или иного погребального комплекса мы считаем необходимым принимать в расчёт масштабы не только внешних, но и подземных погребальных сооружений, так же как и общий объём затраченного на их подготовку труда. Представляется также обязательным учитывать наличие в погребениях не только золотых и вообще так называемых драгоценных вещей, как это обычно делалось раньше, но и бронзовых, особенно массивных, предметов (бронза была дефицитной), а также высокохудожественных предметов из недрагоценных металлов.
В курганных могильниках скифского времени казахстанско-сибирско-центральноазиатского пояса степей можно выделить следующие основные категории погребений представителей разных социальных слоёв.
1. Царские погребения в курганах пазырыкской культуры на Горном Алтае (Пазырык, Башадар, Туэкта и др.), в больших курганах алды-бельской культуры в Турано-Уюкской котловине в Туве, в Салбыкских курганах тагарской культуры в Минусинской котловине, в больших сакских курганах в долине Бесшатыр и в долине Чиликты в Казахстане.
Масштабы царских курганов всех этнокультурных зон свидетельствуют о том, что в их сооружении принимали участие значительные коллективы людей, и о том, что сооружение грандиозных усыпальниц потребовало очень больших для своего времени затрат труда. Согласно подсчётам М. П. Грязнова [Грязнов., 1950. с. 13-15], объём наземного сооружения Первого Пазырыкского кургана составил 1800 куб. м камня, объём могильной ямы составил 196 куб. м; было заготовлено около 500 лиственничных брёвен для камеры-усыпальницы и наката, огромное количество берёсты, лиственничной коры, курильского чая. Большого труда и значительных затрат времени потребовал и монтаж подземных сооружений. Размеры курганов большой Пазырыкской пятёрки были, однако, различными: если диаметр наземного сооружения Первого Пазырыкского кургана составлял 47 м, а высота 2,2 м, то диаметры и высоты наземных сооружений Второго, Третьего, Четвертого и Пятого курганов составляли соответственно 36 и 3,75 м, 36 и 2,6 м, 24 и 1,5 м, 42 и 3,75 м [Руденко, 1953, с. 362, 365, 369, 371, 372]. Размеры других царских курганов Алтая также разнились: Первый Башадарский — диаметр 40 м при высоте 1,6-2 м, Второй Башадарский — диаметр около 58 м при высоте около 2,7 м, Первый Туэктинский — диаметр 68 м при высоте 4,1 м, Второй Туэктинский — диаметр 32 м при высоте 2,6 м, Третий Туэктинский — диаметр 62 м при высоте 5,4 м, Четвертый Туэктинский — диаметр 48 м при высоте 3,7 м, Шестой Туэктинский — диаметр 52 м при высоте 4,1 м [Руденко, 1960, с. 26, 30, 93, 106], Шибэ — 45 м при высоте 2 м [Грязнов, 1928, с. 217].
Царский курган алды-бельской культуры в Туве — курган Аржан, исследованный М. П. Грязновым и М. X. Маннай-оолом в долине р. Уюк, также отличался огромными размерами [Грязнов, Маннай-оол, 1973, с. 191-206]. По расчетам М. П. Грязнова, диаметр наземного сооружения до разработки составлял около 120 м, высота 3-4 м. Камни для сооружения кладки кургана происходят не только из горных отрогов Турано-Уюкской котловины, но доставлялись и откуда-то издалека [Дерпгольц, 1964, с. 100]. На уровне древней поверхности были расположены срубы, перекрытые накатами, сооружёнными из мощных стволов лиственницы (толщиной до 0,7 м); диаметр площади, занятой срубами, достигал 80 м.
Размеры больших курганов в Уюкской долине не стандартны. Как уже отмечалось, в районе Аржана имеется 8 цепочек крупных «земляных» курганов, а также два (помимо Аржана) каменных сооружения, представляющих собой своего рода «платформы». Курганы, входящие в цепочки, имеют диаметры от 30 до 70 м при высоте от 1 до 8 м, каменные «платформы» диаметр от 80 до 100 м при высоте около 1,5 м [Грязнов, Маннай-оол, 1974а, с. 191].
(46/47)
Огромный труд был вложен и в сооружение Большого Салбыкского кургана, являющегося, пожалуй, самым крупным курганным объектом Саяно-Алтайской зоны (датируется курган, по мнению С. В. Киселёва, IV-III вв. до н. э.). Высота Большого Салбыкского кургана перед раскопками достигала 11 м, окружность — 500 м. Исследователями кургана установлено, что первоначально курганное земляное сооружение находилось внутри ограды размером 70x70 м и имело высоту, превышавшую сохранившуюся в два с лишним раза, около 25-30 м; тем самым установлено, что смыто и свеяно в стороны около 30 тыс. куб. м земли. Ограда имела циклопический характер; общая высота стены ограды достигала 2,5-2,8 м, по углам и через определённые промежутки по линии стены были установлены плиты высотой до 4-5 м и весом по 30-40 т [Киселёв, 1951, табл. XVIII, 2-7; Киселёв, 1956, с. 56-58; Грязнов, 1967, с. 191]. Большой Салбыкский курган входит в группу, которая состоит из ещё четырёх аналогичных, но несколько уступающих ему по величине, и 10 курганов, уступающих по масштабам наиболее крупным царским курганам урочища Салбык.
Большой Бесшатырский курган имел ко времени раскопок высоту около 15 м, диаметр 105 м. К. А. Акишев отмечает, что наиболее сохранившаяся сторона кургана имела высоту 17 м. Центральное сооружение было опоясано каменным валом, имевшим ширину 2 м при высоте 0,5-0,6 м. Центральное сооружение было возведено из камня, земли и щебёнки. Внушительные размеры имели и другие царские курганы южной группы Бесшатыра: первый диаметр 52 м, высота 7,6 м (с южной стороны почти 9 м); второй — диаметр 68 м, высота 9,5 м; третий — диаметр 73-75 м, высота 11,5 м; четвёртый — диаметр 48 м, высота 7 м; пятый диаметр 45 м, высота 6 м; шестой — диаметр 52 м, высота 8 м [Акишев, 1963, с. 27-62]. При оценке затрат труда, употреблённого на сооружение этих усыпальниц, должны быть учтены и усилия, затраченные на заготовку, транспортировку и обработку брёвен, из которых затем осуществлялся монтаж погребальных камер Бесшатыра. При этом нелишне вспомнить, что, согласно данным, приводимым К. А. Акишевым, лес заготавливался в 200-250 км от долины сакских царей — в отрогах Заилийского Алатау. Брёвна транспортировали на волокушах (такие волокуши найдены в Шестом Бесшатырском кургане) к р. Или, затем плотами переплавляли их на правобережье и далее, снова на волокушах, доставляли в долину Бесшатыр [Акишев, 1963, с. 80].
Размеры земляных сооружений тринадцати больших курганов Чиликтинской долины в Восточном Казахстане также весьма различны от 100 м в диаметре при высоте 8-10 м до 20-60 м в диаметре при высоте 2-5 м. Размерами выделяются 4 из них, в том числе курган 5, — по этому памятнику можно представить себе конструкцию и масштабы сооружения. Диаметр кургана 5 составлял 66 м, высота 6 м (первоначальный диаметр, по расчету С. С. Черникова, — 45 м, высота около 10 м). Наземное сооружение было возведено из земли, глины, гальки и крупного битого камня. При этом, если земля и галька брались на месте, то камень доставлялся из отрогов гор, отстоящих от места захоронения на расстояние около 15 км, а лиственничные брёвна для сооружения погребальной камеры и дромоса транспортировались к месту сооружения кургана из лесного массива, отстоящего на 40 км [Черников, 1965, с. 11-21, рис. 2, табл. I-VII].
Если рассмотреть данные о масштабах погребальных сооружений так называемых царских курганов в пределах каждой этнокультурной зоны азиатских степей, то окажется, что эти усыпальницы вовсе не стандартны по размерам сооружений и соответственно по затратам труда, употреблённого на их устройство. Различия настолько значительны, что самая высокая по иерархии категория погребальных комплексов скифского времени — «царская» совершенно очевидно распадается на группы, отражающие подразделения в высшем социальном слое древних кочевых племён. Критерий масштабности погребальных сооружений приобретает особенно важное значение ещё и потому, что все до единого большие курганы азиатских степей разграблены в древности и судить о составе помещённого в них инвентаря мы можем лишь по очень богатому боковому погребению кургана Иссык [Акишев, 1978].
2. Погребения родовой дружинной аристократии, властвовавшей в пределах более узких территорий, — курганы тасмолинской культуры в Казахстане [Кадырбаев, 1966а, с. 303-433; Кадырбаев, 1968, с. 21-36], погребения саков Семиречья [Акишев, 1963, с. 88-112, курганы пазырыкской культуры с сопроводительным захоронением коней на Алтае и в Туве, уступающие по размерам и пышности большим пазырыкским, погребения алды-бельской (VII-VI вв. до н. э.) и саглынской (V-III вв. до н. э.) культур в Туве, уступающие по размерам однокультурным им царским курганам (царские курганы саглынцев, впрочем, ещё неизвестны), курганы баиновского, подгорновского и сарагашенского этапов тагарской культуры в Минусинской котловине [Грязнов, 1968, с. 187-196; Киселёв, 1951, с. 184-285], уступающие по масштабам царским усыпальницам Салбыка.
(47/48)
Эти памятники, все без исключения, приписывались исследователями рядовому населению. Подобная трактовка, по-видимому, исходила из сопоставления масштабов этих захоронений ж масштабов царских курганов. Далее априорно подразумевалось, что в соответствии со скромностью размеров захоронений второй категории бедным должен быть и инвентарь. Поскольку целиком неграбленых могильников долгое время открыть не удавалось и, естественно, не удавалось получить целостные комплекты инвентаря, эта точка зрения считалась неоспоримой. Однако открытие в течение последних полутора десятилетий многочисленных неграбленых захоронений этой категории в Туве (могильники Хемчик-Бом III, Саглы-Бажи II, IV, V, Дужерлиг-Ховузу I, Даган Тэли I) и в Минусинской котловине (раскопки Красноярской экспедиции АН СССР) продиктовало необходимость пересмотра точки зрения, трактовавшей погребения этой категории как «рядовые». В погребениях алды-бельской и саглынской культур в Туве были найдены в весьма значительном количестве золотые художественные изделия, дорогие импортные предметы (например, сердоликовые бусы, доставленные из древней Индии), изделия из рога и кости, являвшиеся произведениями высокоталантливых мастеров. В погребениях обнаружено множество предметов из бронзы — предметы вооружения, конского убора, орудия труда и украшения, а бронза была, как уже указывалось, дефицитным материалом. Количество ценностей, положенных в погребения данной категории, было таким, что продолжать интерпретировать их как «рядовые» означало бы моделировать своего рода золотой век у древних кочевников.
Разумеется, мы далеки от мысли трактовать погребения этой категории как некое монолитное целое, не подразделяющееся, в свою очередь, на группы. Мы далеки также и от того, чтобы конструировать совершённое однообразие социальных процессов, протекавших в пределах различных этнокультурных зон, — локальные различия, несомненно, имели место, и археологические памятники дают тому весьма убедительные свидетельства. Однако выделение дополнительных подразделений в пределах второй категории погребений древних культур скифского типа является делом будущих исследований. Пока же можно уверенно говорить о том, что погребения второй категории — захоронения «среднего слоя» — демонстрируют определённые различия по уровню внутри категории. Эти различия отражают динамичный процесс имущественной и социальной дифференциации, выделение более состоятельных семей и семей, достигших меньшего уровня социальной значимости и соответственно меньшего уровня накопления ценностей.
3. Погребения людей низших социальных групп выявлены пока в ограниченных количествах; такие погребения сопутствовали, например, тагарским (при раскопках Салбыкского кургана и синхронного ему могильника Туран II в пределах оград были обнаружены сопроводительные по отношению к главным захоронениям погребения взрослых людей без какого-либо инвентаря). Показательны и факты человеческих жертвоприношений, установленные при исследовании курганов-храмов поклонения солнцу типа Улуг-Хорума в Саглынской долине.
Непотревоженные погребения, которые могут быть интерпретированы как погребения домашних рабов, были открыты при исследовании могильников Мажалык-Ховузу I и II. Они расположены у задних (юго-восточных) стенок срубов курганов саглынской культуры, положение захороненных (в отличие от погребённых основного ряда) — на правом боку, ориентировка — головой на СВ. Погребения эти, как правило, не сопровождаются никаким инвентарём.
О ФОРМАХ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ. ^
При характеристике древних форм семьи определяющее значение имеет исследование коллективных захоронений, особенно таких, которые включают разнополые и разновозрастные погребения.
Какая группа людей погребена в каждой коллективной усыпальнице саглынской культуры? Совокупность археологических данных и антропологических характеристик позволяет полагать, что каждая камера-сруб — это усыпальница семьи. Для того чтобы определить форму семьи, необходимо обратиться к этнографическим материалам.
Вопрос о формах семейно-брачных отношений у кочевых народов Сибири, Казахстана и Средней Азии получил весьма детальную разработку в трудах русских и советских этнографов, в особенности в послереволюционный период (новейшая обобщающая монография, посвящённая этой теме, принадлежит известному советскому этнографу Н. А. Кислякову [Кисляков, 1969]; см. также: [Кисляков, 1967, с. 91-104; Першиц, 1967]; в этих разработках приводится обстоятельная библиография по отдельным народам). Этнографами были рассмотрены и наиболее пережиточные формы семейно-брачных отношений народов Средней Азии и Сибири — реликты группового брака и матернитета. Было констатировано, что в относи-
(48/49)
тельно недавнем прошлом тюркоязычные народы Сибири и Средней Азии практиковали две формы заключения брака, которые развились из «ортодоксального» (определение Н. А. Кислякова) группового брака: 1) более древняя форма — заключение брака посредством похищения, со следующим затем примирением и выкупом и 2) заключение брака со сватовством и уплатой калыма за невесту [Кисляков, 1967, с. 94, 101].
Советские этнографы подробно зафиксировали и обобщили данные по таким реликтовым образованиям, как патриархальные семейные общины с целым рядом явно древних пережиточных форм организации. Было установлено, что к началу XX в. на обширных территориях Средней Азии и Казахстана существовала наряду с большой патриархальной семьёй и малая семья [Кисляков, 1967, с. 98-100].
Н. А. Кисляков подчёркивает, что одним из главных для этнографов вопросов является датировка возникновения большой патриархальной семьи. Заметим, что этот вопрос не менее важен и для археологов, изучающих по своим конкретным материалам древние формы семьи. В самом деле, вопрос о времени сложения этой формы семейных отношений имеет первостепенное значение, ибо, не представляя себе временную динамику процесса, нельзя должным образом понять явление, дожившее практически до этнографической современности.
По вопросу о времени возникновения большой патриархальной семьи Н. А. Кисляков присоединяется к точке зрения большинства специалистов (А. Н. Бернштам, С. П. Толстов, С. М. Абрамзон, Т. А. Жданко), сводящейся к тому, что время первоначального оформления патриархальных семейных общин «относится к началу нашей эры или даже к середине I тысячелетия до н. э.» [Кисляков, 1967, с. 98].
Как было отмечено рядом этнографов, распад больших патриархальных семей сопровождался прежде всего уменьшением их численного состава и образованием переходной формы семейно-брачных отношений — так называемой неразделённой семьи (это наименование было предложено в своё время О. А. Сухаревой и М. А. Бикжановой и применяется ныне большинством специалистов). «Неразделённая семья, — указывает Н. А. Кисляков, — состоит не из трёх и более поколений, как более древняя большая патриархальная семья, а из двух поколений, старшее из которых — одна пара — отец и мать, а с ними живут женатые сыновья». Н. А. Кисляков отмечает, что «женитьба внука вела к выделению новой семьи (курсив мой. — А. Г.), однако ещё не порывающей своих связей, часто и экономических, со старой семьей» [Кисляков, 1967, с. 99].
Особое значение для рассматриваемой проблемы имеет исследование С. М. Абрамзона, подробно изучившего в фактическом и общетеоретическом плане особенности этого процесса у кочевых и полукочевых народов [Абрамзон, 1951, с. 136-156]. С. М. Абрамзон приходит к следующим, весьма существенным для нас заключениям.
1. У кочевников Средней Азии родоплеменная организация в позднейшее дореволюционное время чаще всего представляла собою «идеальную» схему, далеко не всегда отражавшую реальную структуру. Главную роль в объединениях кочевников от племени до «рода» играл «классово-политический момент».
2. Патриархально-родовые подразделения имели реальную форму в виде больших или меньших до составу семейно-родственных групп.
Ретроспекция в сторону археологических материалов от материалов этнографических и сопоставление этих двух категорий наших источников позволяют констатировать, что в скифское время, отстоящее на 2700-2200 лет от эпохи бытования явлений, фиксируемых этнографами, родоплеменная организация имела не «идеальное», а вполне реальное выражение. Степень этнографической и собственно этнической монолитности в пределах конкретных историко-культурных зон «скифского» мира была весьма высокой. В то же время археологический материал, фиксирующий, естественно, несравненно более ранние формы развития, чем этнография, сигнализирует о большой роли семьи как социально-экономической единицы.
Монографическое исследование опорного могильника саглынской культуры Саглы-Бажи II и в особенности анализ возрастных групп погребённых в нём людей показывают, что в «глубоких» срубах помещались останки двух групп взрослых женатых людей (два их поколения), а также малолетние дети. Если «скалькировать» на археологические объекты приведённые выше этнографические определения, то по всем историко-этнографическим категориям признаков, и прежде всего по наличию двух женатых поколений одной семейной группы, камера-сруб саглынской культуры — это место захоронения не членов большой патриархальной семьи в её классической форме, а членов «неразделённой семьи» (к сходным выводам пришел Д. С. Раевский при анализе погребений Неаполя Скифского [Раевский, 1971, с. 60-68]).
Напомним еще раз, что «неразделённая семья» является формой, переходной от большой патриархальной к малой семье. Поэтому
(49/50)
если наши предположения правильны, то придётся обстоятельно проверить общепринятую датировку зарождения большой патриархальной семьи. Нижняя хронологическая граница этого процесса определялась в пределах от середины I тысячелетия до н. э. до начала н. э. Думается, что приведенные нами данные позволяют предложить существенный корректив этой даты: процесс трансформации большой патриархальной семьи, во всяком случае у древних кочевников Центральной Азии, по-видимому, начался значительно раньше, чем предполагалось рядом исследователей.
Открытия последних лет показали, что семейные усыпальницы людей среднего социального слоя с многоактными захоронениями имели распространение не только в Сибири, Центральной Азии и некоторых регионах Средней Азии и Казахстана. Семейные усыпальницы в значительной серии были открыты на территории Южного Приуралья (Оренбургская экспедиция Института археологии АН СССР под руководством К. Ф. Смирнова). До недавних пор, отмечает К. Ф. Смирнов, памятники этого рода были известны только в двух случаях — на р. Илек, Мечетсайский могильник, курган 2 (3 погребенных); «Близнецы», курган 1 (5 погребённых, из них 4 взрослых). В 1972 г. экспедиция К. Ф. Смирнова открыла на Ново-Кумакском курганном могильнике серию коллективных погребений V-IV вв. до н. э. с количеством погребённых до десяти в каждой могиле (мужчины, женщины, дети). К. Ф. Смирнов, основываясь на полевых наблюдениях (особенно показательно, что в двух могилах погребённые лежали «поярусно»), констатировал, во-первых, принадлежность погребённых в каждом склепе к одной семье, во-вторых, многоактность производства захоронений. Функции подхоронительного хода играл в этих памятниках дромос, через который вносили каждого следующего захораниваемого. Исходя из анализа сопроводительного инвентаря, К. Ф. Смирнов пришёл и к ещё одному несомненно важному выводу: исследованные им склепы — это не погребения рядовых кочевников, а усыпальницы богатых савромато-сарматских семей [Смирнов К. Ф., 1973а, с. 108-109; Смирнов К. Ф., 19736, с. 207].
В 1958-1959 и 1962 гг. раскопки Ново-Кумакского могильника велись экспедицией М. Г. Мошковой на основании обнаружения двухъярусных неодноактных погребений в могильных ямах курганов 15 и 19. М. Г. Мошкова справедливо квалифицировала эти курганы как семейные (предположительно к семейным захоронениям автор раскопок отнесла и курган 7, где были обнаружены мужское и женское захоронения). Важным представляется вывод М. Г. Мошковой о хронологическом единстве разноактных погребений — о принадлежности их к одной эпохе [Мошкова, 1962, с. 211, 217, 218, 220-222, рис. 6, 5-9, рис. 7, 1-2, 6-7, 10-11].
Несомненно, важное значение имеет топография расположения курганных комплексов в пределах могильников. Так, при исследовании пазырыкских памятников Алтая С. И. Руденко обратил внимание на то, что в некоторых могильниках большие курганы располагаются цепочками — по пять-шесть в один ряд. Есть случаи расположения больших курганов в пределах того или иного могильника по три, по два, по одному. В пределах собственно Пазырыкского могильника большие курганы группируются так — Первый и Второй, Третий и Четвёртый, отдельно сооружен Пятый. Из этого С. И. Руденко сделал вывод, что в долине Пазырык под крупными сооружениями были погребены представители трёх семей, занимавших выдающееся положение в обществе [Руденко, 1953, с. 259].
Аналогичная картина наблюдалась нами при исследовании синхронных пазырыку памятников саглынской культуры в Южной Туве. Курганы этой культуры также располагаются цепочками, вытянутыми в меридиональном направлении. Например, могильник Саглы-Бажи II чётко подразделяется на две обособленные группы — А и Б с одинаковым количеством курганов в каждой (если учитывать только курганы с камерами-срубами саглынской культуры — соответственно 3 и 3 объекта). Группировка объектов наблюдается и на могильниках саглынской культуры в Центральной Туве (Урбюн III, Аргалыкты VIII, Хемчик-Бом I, IV и др.).
А. Н. Бернштам подчёркивал в своё время такую закономерность внутренней топографии расположения курганов в могильниках ранних кочевников Средней Азии и Казахстана, как группировка их в цепочки меридионального направления [Бернштам, 19496, с. 344-3451. С. М. Абрамзон, подойдя к этим археологическим данным с позиций этнографа, расшифровывает каждую такую цепочку курганов как захоронения членов одной семьи [Абрамзон, 1973, с. 290].
К ВОПРОСУ О ПОЛОЖЕНИИ ЖЕНЩИНЫ У ДРЕВНИХ КОЧЕВНИКОВ. ^
Наблюдения, дающие конкретную информацию о положении женщины в семье и обществе в целом, были сделаны в ходе археологических исследований непотревоженных в древности погребений алды-бельской и саглынской куль-
(50/51)
тур Центральной Азии. Решающее значение в разработке этой проблемы имеют три собственно археологических исследовательских аспекта.
1. Специальное исследование стратиграфии памятников с целью выяснения вопроса об одноактности или многоактности коллективных погребений, выяснение того, не были ли женщины насильственно умерщвлены.
2. Анализ внутренней топографии погребальных камер и соответственно выяснение положения останков женщин и их соотношения с останками мужчин.
3. Распределение инвентаря, находящегося при мужских и женских костяках, и взаимное соотнесение погребённых взрослых и погребённых детей.
Рассмотрим последовательно результаты исследований по этим трём аспектам.
Для получения наиболее полного цикла наблюдений по стратиграфии в ходе полевых исследований нами был применён приём оставления бровок до уровня перекрытия погребений, на какой бы глубине они ни находились. Приём этот, невзирая на некоторые трудности и неудобства (сохранение бровок до значительных глубин — порою в 3-4 м — весьма трудоёмко и требует особой осторожности), применялся нами при раскопках могильников скифского времени на различных территориях Тувы (курганы алды-бельской культуры на могильниках Алды-Бель I, Куйлуг-Хем I, Хемчик-Бом III, V и саглынской культуры на могильниках Саглы-Бажи II, IV, VI, Кюзленги I, Дужерлиг-Ховузу I, Даган-Тэли I, Улуг-Оймак I, II, Куйлуг-Хем I, III, Хемчик-Бом I, IV, Мажалык-Ховузу I, II) и Минусинской котловины (могильники подгорновского и сарагашенского этапов тагарской культуры Туран I, II, III).
В тех случаях, когда под одним курганом находилось несколько отдельно сооружённых могил (памятники алды-бельской и тагарской культур), часто удавалось установить взаимную (относительную) хронологию погребений. Весьма точные наблюдения удаётся сделать, изучая и фиксируя так называемые валики выброса и их соотношение с отдельными погребениями.
Изучение стратиграфии бровок неграбленых курганов дало возможность вполне однозначно ответить на вопрос, являются ли погребения двух, трёх и более людей одноактными или многоактными, — вопрос принципиальный для выявления ряда черт социального устройства и семейной организации общества. Если бы засыпка могильных ям имела монолитный, вполне однородный характер, это позволило бы говорить о возможной одноактности погребений. Однако по бровкам было зафиксировано, что во всех без исключения случаях во все коллективные семейные усыпальницы неграбленых курганов саглынской культуры ведут шахты подхоронительных ходов, чётко отделяющиеся от окружающих слоёв засыпки могильных ям. В каждой из таких шахт наличествовало каменное заполнение, которое применялось устроителями древних усыпальниц для того, чтобы облегчить работу, проводившуюся при освобождении хода для помещения в камеру-сруб очередного умершего члена семьи: каждый раз разрыхлять и извлекать слежавшуюся, а в высокогорных зонах и промёрзшую засыпку было бы много труднее.
Подхоронительные ходы оказались достаточно обширными, и в ряде случаев их площадь оказалась равной 2/3 площади сруба. Нас, естественно, не мог не интересовать вопрос о сопряжении нижнего яруса подхоронительных ходов с перекрытием срубов. Выяснение этого вопроса оказалось нелёгким делом. Трудности обусловливались тем, что неграбленые усыпальницы, скованные мерзлотой, несмотря на отличную сохранность самих камер, как правило, имели перекрытие плохой сохранности: объяснялось это тем, что перекрытия в соответствии с условиями образования курганной мерзлоты в долине Саглы находились в активном мерзлотном слое. Только в 1968 г. при раскопках кургана 1 могильника Саглы-Бажи IV удалось, наконец, открыть такую камеру, где сохранность перекрытия, подхоронительного хода и самого сруба позволила документально установить, что в потолке камеры имелся обширный люк, через который и производились подхоронения; ход в этом кургане был укреплён съёмным вертикальным лиственничным бревном. В последующие полевые сезоны входы в камеры были документально зафиксированы на могильниках Саглы-Бажи VI, Дужерлиг-Ховузу I и Даган-Тэли I.
Исследование стратиграфии бровок и подхоронительных ходов привело нас к выводу, что погребения в коллективных усыпальницах саглынской культуры были не одноактными, а многоактными. Умершие помещались в камеры не все сразу, а по мере наступления смерти того или иного члена семьи независимо от пола и возраста.
Вполне однозначные данные даёт анализ внутренней топографии погребальных камер саглынской культуры. В соответствии с канонами погребального ритуала, особенно строго соблюдавшимися на раннем (собственно саглынском) этапе саглынской культуры, размещение погребённых в камерах было таково: взрослые покоились в один ряд, головами у западных — северо-западных бортов камер-
(51/52)
срубов, дети, как правило, — в ногах взрослых. Положение погребённых — в позе спящих, с подогнутыми ногами, на левом боку, ориентировка — головой на запад, северо-запад. Женщины покоятся в усыпальницах в одном ряду с мужчинами и в совершенно одинаковом с ними положении (антропологические определения, совмещённые с анализом дифференциации инвентаря). Зафиксировано наличие при мужчинах оружия и отсутствие такового при женщинах. Кроме того, показательно распределение посуды: в подавляющем большинстве случаев глиняная кухонная посуда находилась при останках женщин, деревянная посуда (в том числе деревянные сосуды явно походного назначения — с отверстиями для подвешивания, проделанными в ручках) — при останках мужчин. При женских костяках часты захоронения детей — это дети, погребённые в ногах своих матерей. Особый интерес представляет один случай, зафиксированный при исследовании кургана 9 могильника Саглы-Бажи II, где погребённая женщина (костяк 1) в возрасте более 45-50 лет сжимала в объятиях ребёнка в возрасте до 1 года (бабушка с внуком?). Напомним также, что при женских костяках в серии случаев были найдены специфические амулеты — антропоморфные подвески, изображавшие женское божество, в функции которого входило и покровительство деторождению и плодовитости.
Не отмечено ни одного случая насильственного умерщвления женщин и сопроводительного захоронения женщины вместе с мужчиной. Как и мужчины, женщины вносились в камеры через охарактеризованные выше подхоронительные ходы.
Сопроводительный инвентарь даёт вполне ясные свидетельства о том, что в круге занятий мужчин видное место занимало участие в военных походах, а круг занятий женщин включал ведение домашнего хозяйства и воспитание малолетних детей. Археологические данные свидетельствуют о мобильности мужчин-воинов и о более стационарном образе жизни женщин, ведших домашнее хозяйство и, по-видимому, остававшихся в зоне обитания отдельных этнических групп во время межплеменных войн. Таким образом, внутренняя топография распределения погребённых и неодноактность (разновременность) совершения захоронений при отсутствии обряда «соумирания» женщин свидетельствуют о достаточно самостоятельном и относительно высоком положении женщин в семье и обществе в целом, что, впрочем, специфично для кочевых народов разных исторических эпох.
«Классической» для патриархального рода формой погребального обряда считаются парные погребения, т.е. захоронение вместе с мужчиной умерщвлённой женщины — жены или наложницы. Для племен скифского времени Саяно-Алтая, Центральной Азии и Казахстана этот обряд не был характерен совершенно и, во всяком случае, достоверно не зафиксирован ни в одном захоронении первых двух социальных категорий — высшей и средней. Даже если когда-либо подобный обряд существовал на указанных территориях, к скифскому времени он давно ушёл в прошлое, не оставив каких-либо заметных следов. [2]
Коллективными и многоактными бывали и погребения в царских курганах.
Многоактность погребений была достоверно зафиксирована при раскопках Большого Салбыкского кургана в Хакасии. Главная погребальная камера была обнаружена в западной части кургана. Снаружи она была покрыта слоем берёсты и шестью слоями наката. Камера-сруб имела размер 4x3,5 м. В камере (она была ограблена дважды — в древности и в XVIII в.) находились останки шести погребённых. С запада в погребальную камеру вёл подземный коридор, который входил в неё через середину западной стены. «Через этот коридор, — указывает С. В. Киселёв, — осуществлялись повторные погребения в камере». [Киселёв, 1956, с. 58]. Таким образом, по нашей терминологии, салбыкский коридор является подхоронительным ходом.
К сказанному существенно добавить, что в Большом Салбыкском кургане были открыты дополнительные погребения: у северо-западной и юго-западной стен — погребения взрослых, которые С. В. Киселёв характеризует как строительные жертвы [Киселёв, 1956, с. 57], у северо-восточной и юго-восточной стен погребения младенцев.
Если сопоставить имеющиеся фрагментарные (ввиду ограбления) данные о погребальной камере Большого Салбыкского кургана и детальные данные по конструкции комплекса в целом, можно заключить, что этот поистине царский курган содержал коллективное погребение. Скорее всего, это было погребение семьи. Правда, против такого вывода могло бы быть выдвинуто предположение, что это погребение
(52/53)
какого-то главного лица с сопровождающими его лицами. Однако отмеченное С. В. Киселёвым наличие подхоронительного хода и вся сумма других фактов убедительно свидетельствуют, что шесть погребённых были помещены в камеру не одновременно, а по мере смерти каждого из них.
При исследовании погребальной камеры Второго Пазырыкского кургана С. И. Руденко были сделаны весьма ценные наблюдения о состоянии тел погребённых здесь людей [Руденко, 1949, с. 264-265]. В камере их было погребено двое — мужчина в возрасте Sen. (от 50 до 60 лет) и женщина в возрасте Mat. (свыше 40 лет). Мумифицированные тела погребенных первоначально, до «ограбления» кургана, покоились в огромной колоде, покрытой внутри чёрным войлоком, поверх которого был постлан тонкий шерстяной коврик. С. И. Руденко делает совершенно определённое заключение о естественной смерти женщины: «На голове женщины, как и на её теле, не обнаружено никаких признаков насильственной смерти». [Руденко, 1949, с. 265]. Мужчина же погиб, сражённый боевым чеканом, — на теменных костях имеются три отверстия, пробитых чеканом (уже потом, после проникновения в курганную камеру «грабителей», мумии подверглись расчленению).
Вопрос о «соумирающих» или подхороненных встал и при исследовании Хорезмской комплексной археолого-этнографической экспедицией ИЭ АН СССР захоронений эпохи поздней бронзы на могильнике Тагискен, датируемых IX-VIII вв. до н. э. и относящихся, таким образом, к историческому периоду, непосредственно предшествующему скифскому времени, памятники которого были открыты в пределах этого же могильника и на могильнике Уйгарак.
К мавзолеям эпохи бронзы примыкают прямоугольные ограды, сложенные из кирпича. По интерпретации авторов раскопок, в этих оградах были погребены родственники и приближённые главного погребенного [Толстов, Итина, 1966, с. 152]. Предлагаемая авторами раскопок интерпретация совершенно справедлива, так как вытекает из всех наличных данных.
Вовсе не так однолинейно, как раньше, предстаёт сейчас и вопрос об одноактности или неодноактности царских усыпальниц западных территорий — собственно Скифии. При исследовании царского скифского кургана Толстая Могила (окраина г. Орджоникидзе, в 10 км от Чертомлыка) были открыты: центральное погребение (царь), боковая гробница (женщина-царица и ребёнок), погребения «воина-охранника» и «возничего» и два женских захоронения («служанки»). Всего знатных погребенных сопровождало в иной мир четверо слуг [Мозолевский, 1972а, с. 6-7; Мозолевский, 1972б, с. 268-308; Мозолевский, Черненко, Зарайская, 1972, с. 338-341]. По-царски пышными были и центральная усыпальница, и усыпальница женщины с ребенком. Руководитель раскопок Б. Н. Мозолевский уже в предварительной публикации убедительно доказал наличие родственных связей между главными погребёнными, их принадлежность к одной семье и выдвинул аргументированную версию, согласно которой между погребениями мужчины из центральной усыпальницы и ребёнка из боковой прошёл некоторый промежуток времени (максимум три года, этот отрезок времени мог быть и значительно меньшим). Похороны ребёнка состоялись и позже похорон женщины (вероятно, его матери), и он был внесён в гробницу через отдельный вход. По справедливому заключению Б. Н. Мозолевского, похороны каждого из лиц царской семьи были одноактными. Учитывая, что Толстая Могила входит в круг других царских скифских курганов, которые, однако, были подвергнуты сокрушительному разграблению, наблюдения, сделанные при исследовании, должны быть «скалькированы» и с должной осторожностью «наложены» на другие, нарушенные, комплексы. Думается, что это позволит объективно проверить явно одностороннее представление о повсеместной и обязательной одноактности всех царских семейных усыпальниц (Б. Н. Мозолевский напомнил об одном весьма важном факте: в кургане Верхний Рогачик, очень близком к Толстой Могиле, женская усыпальница была, по-видимому, и центральной и основной [Мозолевский, 1972б, с. 306]).
Изложенное, разумеется, не противоречит твёрдо установленным археологическим фактам, сочетающимся с сообщениями письменной истории и свидетельствующим о наличии в царских скифских захоронениях погребений насильственно убитых людей, «сопровождавших» скифских владык в иной мир. Исследователи выделяют 4 группы погребений в царских курганах помимо захоронений царей: I группа — богатые женские захоронения, которые порою сами сопровождаются погребениями женщин, причём последние отличаются либо полным отсутствием, либо крайней скудностью инвентаря; II группа — весьма богатые мужские захоронения с большим количеством оружия и золотых украшений; III группа — погребения людей, связанные с конскими захоронениями; IV группа — погребения мужчин, женщин и подростков, находящиеся у входа в главную камеру или в самой камере — при главном мужском, реже, при женском захоронении [Хазанов, 1972, с. 163].
(53/54)
Следует со всей ясностью отметить, что только погребённые III и IV групп по приведенной классификации могут быть квалифицированы как захоронения насильственно умерщвлённых людей. Что же касается богатых захоронений I и II групп, то это погребения членов царской семьи, и для того чтобы говорить о насильственном умерщвлении этих лиц, нет решительно никаких оснований. Археологические данные не дают никаких свидетельств в пользу того, что какие-либо члены семьи умерщвлялись после смерти её главы. Напротив, неодноактность помещения в усыпальницы членов царской семьи, в том числе женщин — жён царей, свидетельствует об их захоронении по мере естественной смерти. Археологические данные не дают никаких подтверждений особо приниженного положения женщин в семье знатнейших скифов.
Не следует думать, что положение женщин у племен, обитавших в разных историко-культурных зонах «скифского» мира, имело некий стандартный характер.
В легендарной форме вопрос о положении женщин у скифов, с одной стороны, и савроматов — с другой, излагается в известном рассказе об амазонках и происхождении савроматов. В изложении Геродота речь амазонок, обращённая к скифским юношам, такова: «Мы не можем жить с вашими женщинами. Ведь обычаи у нас не такие, как у них: мы стреляем из лука, метаем дротики и скачем верхом на конях; напротив, к женской работе мы не привыкли. Ваши же женщины не занимаются ничем из упомянутого, они выполняют женскую работу, оставаясь в своих кибитках, не охотятся и вообще никуда не выходят. Поэтому-то мы не сможем с ними поладить» (Геродот, IV, 114). Далее Геродот сообщает, что у савроматов «женщины сохраняют свои стародавние обычаи: вместе с мужьями и даже без них они верхом выезжают на охоту, выступают в поход и носят одинаковую одежду с мужчинами» (Геродот, IV, 116). И ещё далее: «Что касается брачных обычаев, то они вот такие: девушка не выходит замуж, пока не убьёт врага. Некоторые умирают старухами, так и не выйдя замуж, потому что не в состоянии выполнить обычай» (Геродот, IV, 117). [3] В известной мере эти сообщения Геродота перекликаются с его же сообщением о положении женщины у исседонов: «Этих людей (исседонов. — А. Г.) также считают праведными, а женщины у них совершенно равноправны с мужчинами» (Геродот, IV, 26). [4]
Анализируя сообщения Геродота о савроматах, нельзя не отметить свойственные вообще любым легендарным сведениям элементы гиперболизации. Таково описание идеализированного общества без мужчин — общества амазонок, как и возможное преувеличение роли женщин в войне и в охоте. Однако важно в этих отрывках другое: коль скоро речь идёт об обществе кочевников, даже при учёте отмеченных элементов гиперболизации можно чётко фиксировать достаточно высокое положение женщин.
Сопоставляя данные, полученные при исследовании археологических культур скифского времени азиатских степей, с сообщениями Геродота о более западных территориях скифского мира, мы можем, например, констатировать, что, по-видимому, положение женщины у древних кочевников Центральной Азии, в частности у носителей саглынской культуры, было более близким к положению женщины у савроматов и исседонов, нежели к обычному положению женщины у скифов.
Вопрос о роли и положении женщины у европейских скифов уже много лет находится в поле зрения исследователей.
Д. Б. Шелов констатирует «отсутствие у скифов ощутимых следов матриархальных отношений» и делает вывод о «приниженном» положении женщины у скифов. При этом Д. Б. Шелов, однако, указывает, что случаи многожёнства у скифов следует рассматривать в свете известного замечания Ф. Энгельса, который писал: «Многожёнство одного мужчины было, очевидно, результатом рабства и было доступно только лицам, занимавшим исключительное положение» [Маркс и Энгельс, т. 21, с. 64].
Вывод Ф. Энгельса находит ныне подтверждение в обширных сериях археологических фактов. В частности, исследование скифских погребальных памятников показывает, что сопогребения, которые можно было бы трактовать как сопроводительные по отношению к мужским, совершенно несвойственны захоронениям средних и тем более рядовых слоёв. Письменный источник даёт нам всего одно свидетельство о многожёнстве у скифов, причем человек, имевший, согласно этому источнику, трёх жён, занимал наивысшее в обществе положение это скифский царь Ариапейт (Геродот, IV, 78-80; это свидетельство Геродота упоминается и Д. Б. Шеловым).
История рассмотрения вопроса о положении женщины у скифских и савроматских племён даёт примеры крайностей во мнениях.
(54/55)
Хрестоматийная точка зрения о приниженности женщин в эпоху патриархата встретила на своем пути концепцию, констатировавшую сохранение элементов матриархата у такой группы, как савроматы. Автором реконструкции женовластия у сарматов явился Б. Н. Граков, усмотревший у них пережитки матриархата [Граков, 1947]. Дискуссия, развернувшаяся после публикации в 1947 г. работы Б. Н. Гракова, выявила две противоположные точки зрения. Сторонники и противники концепции Б. Н. Гракова ведут спор уже много лет.
С реалистических позиций подошел к рассмотрению так называемой проблемы матриархата у савроматов А. П. Смирнов. Основные его выводы сводятся к следующему: матриархат как стадия развития человеческого общества связан с началом родового строя, который характеризуется низким уровнем развития производительных сил и социальных отношений; погребения женщин-воительниц свидетельствуют о высоком положении женщин, однако это не является чертой, свойственной лишь савроматам, — подобная черта свойственна многим другим народам; «гинекократизм» савроматов не есть пережиток матриархата, а является отражением того, что во время войн и грабительских набегов «вся безопасность дома и стада обеспечивалась женщиной» [Смирнов А. П., 1966, с. 84-85].
Дискуссия об элементах матриархата у савроматов не так давно была продолжена [Хазанов, 1970, с. 138-148]. Было отмечено, что дискуссия в значительной мере зашла в тупик, потому что как сторонники теории Б. Н. Гракова, так и противники признания «женовластия» у сарматов часто основывают свою аргументацию на давно устаревших и вышедших из научного обихода положениях. В то же время широкое привлечение данных, известных современной этнографической науке, позволяет перенести сугубо археологический спор в область общей этнографии. Не касаясь дискуссионной проблемы соотношения материнского и отцовского рода в ранние периоды истории первобытности, исследователи считают необходимым со всей ясностью напомнить о следующих важных положениях, развиваемых в современной этнографии.
1. Разложение первобытнообщинного строя вовсе не обязательно знаменуется распадом материнского рода и заменой его родом отцовским. Патриархальный род и позднематеринский род — параллельные формы распада первобытнообщинных форм.
2. Для позднего материнского рода характерны такие черты, как матрилинейность счёта родства и порядка имущественного и социального наследования, матрилокальность (авункулокальность) или дислокальность брачной резиденции при наличии постепенно развивающейся патрилокальности; сохранение парного брака (или его пережитков); важная роль женщины в хозяйстве (есть исключения); высокое, но вместе с тем отнюдь не доминирующее положение женщины в социальном отношении — решающая роль принадлежит мужчине.
3. Как для патриархального, так и для позднематеринского рода характерны общие явления: развитие частной собственности, обособление отдельных семей в экономическом отношении, рождение форм эксплуатации.
4. Совершенно неправомерно употребление в дискуссии термина «матриархат», идущего ещё от В. Бахофена: применение исследователями этого термина не только затемняет, но и искажает существо спора.
Особое положение женщины у кочевых народов нашло отражение в средневековых письменных источниках. Так, указание о том, что женщины поздних кочевников принимают участие в ратных делах наравне с мужчинами, присутствует в сочинении Анны Комнин. Однако в погребениях поздних кочевников южнорусских степей сабли, мечи, луки, шлемы, кольчуги, панцири присутствуют исключительно в мужских погребениях, в то время как ножницы, зеркала, браслеты — принадлежность женских позднекочевнических погребений; в то же время в женских погребениях в очень редких случаях известны находки колчанов — 3 случая, или 4%, и стрел — 3 случая, или 4%. Г. А. Фёдоров-Давыдов, исходя из данной совокупности фактических данных, вполне справедливо усматривает в сообщении Анны Комнин стремление увидеть амазонок в южнорусских степях [Фёдоров-Давыдов, 1966, с. 116-117].
Если обратиться к этнографическим материалам, характеризующим брак и семью кочевников Центральной Азии и иллюстрирующим обычное семейное право, то мы получаем данные, опять-таки свидетельствующие об относительно высоком положении женщин в семье и обществе. С одной стороны, выясняется, что женщина была в высокой степени обременена обширным кругом хозяйственных обязанностей и существенных правовых ограничений. С другой стороны, обычное семейное право у кочевников Центральной Азии (особенно у кочевников, не исповедовавших ислам, например у тувинцев, являющихся одним из древнейших по происхождению тюркоязычных народов) издревле предусматривало известную правовую самостоятельность женщины. Например, согласно обычному праву тувинцев, если муж наносил физическое оскорбление жене, она имела
(55/56)
возможность тут же расторгнуть брак и уйти к родителям, забрав с собой свою долю имущества (главную часть приданого составляла юрта). Неприличной и недопустимой считалась даже простая ссора между мужем и женой в присутствии посторонних. Эти моменты обычного права и семейного быта были зафиксированы рядом исследователей, в том числе и мною, в самых разных районах Тувы (ср.: [Яковлев, 1900, с. 94; Забелина, 1973, с. 82-84р. Аналогичные правовые нормы нам довелось наблюдать и у монголов — халха и дербетов (ср.: [Цэрэнханд, 1977]).
В киргизском эпосе фигурируют женщины-богатырши; зафиксировано участие женщин в богатырских развлечениях — воинских состязаниях киргизов [Симаков, 1977, с. 84].
Приведённые данные вполне убедительно свидетельствуют о специфических чертах положения женщины в кочевом мире, — чертах, сложившихся в глубокой древности и прошедших до наших дней через многие столетия, через смену социальных формаций.
ВОЗРАСТНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА. ^
Археологические данные в сочетании с антропологическими характеристиками позволяют в некоторых случаях выяснить контуры возрастных подразделений. В частности, определение возрастных категорий целиком не потревоженного в древности и полностью монографически исследованного могильника саглынской культуры в Туве Саглы-Бажи II (V-IV вв. до н. э.) даёт возможность сделать следующие заключения.
1. Возрастной состав погребённых соотносится с конструктивными данными погребальных сооружений (масштаб подземного сооружения и глубина его залегания). Антропологические определения показывают, что из 18 человек, погребённых на местах взрослых в «глубоких» камерах-срубах, 13 оказались людьми старческих для своего времени возрастов — средний возраст 45 лет с большим количеством людей 50-60 лет (Sen.). В «мелких» камерах-срубах погребены более молодые. На особых местах погребены дети; возрастной диапазон от менее 1 года до 7-8 лет (Inf.); все дети лежат, как правило, в ногах взрослых.
2. На «взрослых» местах в нескольких случаях погребены подростки 9-10 лет. Примечательно, что в этих случаях погребённые лежат у южных — юго-западных стенок камер, на краях «взрослых» рядов, и инвентарь, обнаруженный при этих погребённых, отражает некоторое их обособление от взрослых воинов: из оружия при подростках найдены только стрелы и отсутствуют тяжёлые бронзовые боевые кинжалы и чеканы, походные «несессеры» и другие предметы, обычно находящиеся при останках людей 25-летнего (Ad.) и более старшего возраста.
В целом не потревоженные в древности могильники Саглынской долины демонстрируют следующую картину половозрастного состава: 1) старшая категория, куда входили мужчины и женщины в возрасте Ad., Mat., Sen. — от 25-30 лет и выше; 2) категория взрослых мужчин и женщин, куда входили люди от 16 до 25 лет; 3) категория лиц подростковых и юношеских возрастов (от 9 до 16 лет), причисленных к взрослым, однако с ограничениями; 4) дети до 7-8 лет.
Проблема возрастных классов и их пережитков давно уже стала предметом исследований советских этнографов [Толстов, 1938, с. 72-81; Кисляков, 1936, с. 114-120, 138; Абрамзон, 1949; Абрамзон, 1947, с. 146; Рахимов, 1977, с. 43-44]. Рассмотрение С. П. Толстовым этой проблемы показало, что институт возрастных классов имел широкое распространение у древних народов Центральной и Средней Азии, а затем, прекратив своё существование в чистом виде, сохранился в виде пережитков вплоть до весьма поздних времён.
Специальное исследование посвятила этой проблеме К. Л. Задыхина [Задыхина, 1951, с. 157-159]. Обобщив материалы, собранные исследователями у узбеков, таджиков, киргизов, казахов, К. Л. Задыхина пришла к весьма важным заключениям: у народов Средней Азии как мужчины, так и женщины проходили четыре главные возрастные ступени: детство, юношество, зрелость и старость. Переход из одного подразделения в другое сопровождался реликтовыми ритуальными действами и соответствующими изменениями в одежде, прическе и т.д. Мальчики, например, в возрасте от 5-7 до 9-12 лет отделялись от матерей и начинали освоение круга мужских занятий; совершались и некоторые обрядные действия, знаменовавшие их переход в разряд юношей. От 5-6 до 12 лет наступало время обрезания, знаменовавшее приобщение к разряду мужчин, — сложный комплекс, отражавший древние инициации. Главный вывод исследования таков: «Моменты, связанные с институтом возрастных классов, несмотря на деформацию и почти полное исчезновение этого института, представляют большой интерес, ибо благодаря им выявляется одна из недостаточно исследованных бытовых сторон жизни народов Средней Азии, прошедших общий для всех народов путь общественного развития» [Задыхина, 1951, с.178].
(56/57)
Возрастное разделение, обусловленное военной организацией общества, — явление не узколокального, а мирового порядка, характерное для народов, находившихся на заключительных этапах разложения первобытнообщинного строя и рождения государственных форм. Это явление весьма ярко отражает влияние военной организации общества на корректировку и некоторое переоформление привычного для первобытнообщинного строя возрастного деления. Подобные явления имели широкое распространение и в древности — у народов, проходивших стадии развития, отмеченные войной и развитием военных отношений. Наш археологический материал вполне убедительно свидетельствует об этом.
Наличие возрастных подразделений общества в скифском мире должно было предусматривать бытование инициации — комплекса испытаний, которые проводились при переходе молодых людей в категорию взрослых членов общества. Мировая этнография даёт поистине необозримое количество примеров и характеристик инициации и их пережитков у народов разных материков и этнокультурных зон. Этнографические материалы позволяют считать инициации комплексом явлений всемирно-исторического порядка, зародившимся во времена глубокой первобытности, но характерным и для эпохи распада первобытнообщинного строя и рождения классового общества (о происхождении возрастных инициации см.: [Семёнов, 1966, с. 302-309; Токарев, 1964б, с. 130-131, 213-235]).
Л. Леви-Брюль вслед за Спенсером и Гиленом дал одно из наиболее чётких определений сущности инициации: «Церемонии посвящения имеют целью сделать индивида «совершенным», способным исполнять все функции законного члена племени, они призваны закончить» его в качестве живого человека» Леви-Брюль, 1930, с. 237]. Далее Леви-Брюль начертил ставшую классической схему мировых систем инициации: «Новопосвящаемые отделяются от женщин и детей, с которыми ни жили до этого времени. Обычно отделение совершается внезапно и неожиданно. Будучи вверены попечению и наблюдению определённого взрослого мужчины, с которым они часто находятся в известной родственной связи, новопосвящаемые обязаны пассивно подчиться всему, что с ними делают, и переносить, без каких бы то ни было жалоб всякую боль, пытания являются долгими и мучительными, а порой доходят до настоящих пыток. Тут мы встречаем и лишение сна, пищи, бичевание и сечение палками, удары дубиной по голове, выщипывание волос, соскабливание кожи, вырывание зубов, обрезание, подрезание, кровопускание, укусы ядовитых муравьёв, душение дымом, подвешивание при помощи крючков, вонзаемых в тело, испытание огнём и т.д.» [Леви-Брюль, 1930, с. 238-239].
Л. Леви-Брюль делает вывод, сводящийся к тому, что стремление удостовериться в храбрости и выносливости инициируемых, испытание их мужества, их способности терпеть боль и не выдать тайну — это мотив второстепенный. Главный, по Леви-Брюлю, мотив достижение мистического результата, заключающегося в установлении связи между новопосвящёнными и «мистическими реальностями», которыми, по мнению французского исследователя, определяется сущность общественной группы [Леви-Брюль, 1930, с. 239].
Мы не будем вдаваться здесь в сущность мистических целей инициации — это не относится к предмету нашего исследования. Отметим лишь, что Л. Леви-Брюль определённо преуменьшает «экзаменационное» значение инициаций, являющихся суммой испытаний, которые должны были выдержать молодые, вводимые в разряд взрослых полноправных членов общества. Заметим, что во время посвящения, как справедливо подчеркивает Ю. И. Семёнов, юношам сообщали нормы поведения в коллективе [Семёнов, 1966, с. 303-304]. Что же касается варварского зачастую характера инициации, то он отражал те ступени социально-экономического развития, на которых находились конкретные этнические группы.
Письменные источники, хотя и не содержат целостной характеристики инициации у племён Великого пояса степей скифского времени, свидетельствуют о наличии инициации и об отдельных существенных элементах и нормах посвятительных и испытательных обрядов.
Повествуя о воинских обычаях европейских скифов, Геродот указывает: «Когда скиф убивает первого врага, он пьёт его кровь. Головы всех убитых им в бою скифский воин приносит царю. Ведь только принесший голову врага получает свою долю добычи, а иначе нет» [Геродот, 1972, с. 202; ср.: Геродот, 1888, с. 331]. При комментировании этого отрывка Г. А. Стратановский указал со ссылкой на «Золотую ветвь» Д. Фрэзера, что кровь врага пили, «чтобы вместе с кровью всосать его “силу”» [Геродот, 1972, с. 520]. Соотнесение Г. А. Стратановским рассказа древнего историка с материалами, имеющимися в труде Д. Фрэзера, в данном случае неосновательно: помимо приведённого Д. Фрэзером свидетельства о галлах, также имевших обычай пить кровь своих врагов и обмазываться ею, в труде этом сведены данные, свидетельствующие об обычаях многих народов, связанных с табу-
(57/58)
ированием крови [Фрэзер, 1928, с. 71-73]. Нам кажется, что обряд питья крови первого убитого в бою врага включал в себя прежде всего элемент испытания жизнестойкости души молодого воина, ведь по обширному кругу этнографических свидетельств можно судить о том, что вместе с кровью подразумевалось и вхождение в него души его врага.
Этногенетические предания скифов также содержат отзвук обряда инициации. Напомним в связи с этим рассказ о трёх сыновьях Таргитая — Липоксае, Арпоксае и самом младшем, Колаксае. Геродот пишет, что в их царствование на скифскую землю упали золотые предметы: плуг, ярмо, секира и чаша. «Первым увидел эти вещи старший брат. Едва он подошёл, чтобы поднять их, как золото запылало. Тогда он отступил, и приблизился второй брат, и опять золото было объято пламенем. Так жар пылающего золота отогнал (курсив мой. — А. Г.) обоих братьев, но, когда подошёл третий, младший, брат, пламя погасло и он отнёс золото к себе в дом. Поэтому старшие братья согласились отдать царство младшему» [Геродот, 1972, с. 188; ср.: Геродот, 1888, с. 305]. В рассказе этом, с нашей точки зрения, отразились обряды суровых испытаний огнём, — испытаний, которым, в свете этого свидетельства, подвергались скифские воины.
Второй вариант этногенетических преданий скифов опять-таки содержит элементы испытательных обрядов инициации. Геракл говорит женщине-змее: «Когда увидишь, что сыновья возмужали, то лучше всего тебе поступить так: посмотри, кто из них сможет вот так натянуть мой лук и опоясаться этим поясом, как я тебе указываю, того оставь жить здесь. Того же, кто не выполнит моих указаний, отошли на чужбину. Если ты так поступишь, то и сама останешься довольна и выполнишь моё желание» [Геродот, 1972, с. 189]. В переводе Ф. Г. Мищенко это место имеет оттенки, еще более категорично указывающие на элемент испытаний: «Когда дети твои возмужают, поступи лучше всего так: посмотри, который из них натянет этот лук так, как я его натягиваю, и по-моему опояшется этим поясом, тому и предоставь твою землю для жительства; напротив, вышли отсюда того из них, который не сможет предложенной задачи выполнить (курсив мой. — А. Г.)» [Геродот, 1888, с. 307-308]. В отрывке этом мы видим не только испытания подвергавшихся инициации юношей, но и суровые выводы, которые следовали для тех, кто комплекса испытаний не выдерживал, — они не только не считались достойными быть равноправными членами общества, но и не считались достойными вообще жить на родной земле.
Есть у Геродота и отражение женских инициаций. Сообщая о брачных обычаях савроматов, он указывает: «Девушка не выходит замуж, пока не убьёт врага. Некоторые умирают старухами, так и не выйдя замуж, потому что не в состоянии выполнить обычай» [Геродот, 1972, с. 216; ср.: Геродот, 1888, с. 355]. Несмотря на несомненную долю гиперболизации (на это нам уже приходилось указывать в разделе, посвящённом роли и положению женщин), и здесь мы видим суровый обычай: не выдержавшая инициации девушка безоговорочно лишалась права на переход в категорию взрослых женщин и соответственно не получала права на вступление в брак.
Таким образом, в труде Геродота имеются вполне ясные свидетельства о том, что обряды инициации в скифском мире бытовали и что племена скифского времени не составляли в этом отношении исключения из общемирового круга. Старшие возрастные категории общества скифского времени планомерно готовили себе замену, и инициации являлись рубежом воспроизводства зрелых и полноправных членов общества.
В проблеме возрастных подразделений общества одними из узловых являются вопросы исследования молодежи: какова её роль в обществе, как происходит переход из младших возрастных категорий в старшие, каковы возрастные границы молодёжи (иными словами, где проходит рубеж, отделяющий молодёжь от старших возрастов)? Этим и другим важным вопросам теоретического порядка посвящена монография В. Н. Боряза [Боряз, 1969]. Он справедливо подчёркивает, что при определении такой группы общества, как молодёжь, следует исходить из комплекса данных, освещающих не только биологические, но и (что не менее важно) психологические и социальные характеристики [Боряз, 1969, с. 135]. Думается, что сказанное должно распространить и на определения других возрастных подразделений общества. К этому следует добавить, что собственно археологические объекты — погребальные комплексы дают возможность реально выделить, во всяком случае, две из отмеченных выше характеристик — биологическую (антропологическую) и социальную.
Определение сущности социальных отношений в связи с проблемой воспроизводства «совокупного индивида» было предложено М. Н. Перфильевым, который указал, что «в системе общественных отношений в качестве исходного звена существуют отношения, которые связаны с условиями существования и расширенного воспроизводства совокупного индивида как производительной силы (объекта и субъекта
(58/59)
труда) и как личности (прежде чем индивид включится в исторически обусловленную систему экономических, политических и иных общественных: отношений, т.е. прежде чем он станет личностью в полном смысле этого слова, он должен быть как-то подготовлен к этим отношениям, получить элементарные навыки познания, чтобы приобщиться к ним)» [Перфильев, 1974, с. 38; ср.: Перфильев, Орлова, 1973, с. 98].
Данные исследования и выявления возрастных категорий общества древних кочевников скифского времени позволяют «скалькировать» определения методологического порядка на констатации, вытекающие из археологического и этнографического материала.
Прежде всего следует обратить внимание на то, что в обществе древних и поздних кочевников обычным правом был регламентирован процесс воспроизводства взрослых возрастных категорий за счёт возрастных категорий, постепенно подготавливаемых к общественной жизни — к труду, войне, к участию в многообразии социальных явлений. Процесс общественного воспроизводства предстает как процесс организованный и жизненно необходимый; без планомерного пополнения соответствующим образом подготовленных взрослых членов общества кочевые объединения были бы, несомненно, обречены на гибель.
Возрастные категории молодёжи современного общества определяются В. Н. Борязом в пределах 14-35 лет (без дифференциации возрастного признака по полу) [Боряз, 1969, с. 148]. Археологические факты, в частности наблюдения, сделанные при исследовании саглынских усыпальниц, говорят о том, что возрастные границы подготовки молодёжи к активной жизни в обществе древних кочевников были значительно ниже, нежели современные, и возрастной диапазон категорий молодёжи охватывал возрасты от 9-10 до 25 лет. Этнографические факты в сочетании с археологическими данными убедительно свидетельствуют, что обществу кочевников процесс воспроизводства старших категорий за счет планомерной и узаконенной системы возрастных подразделений — подготовки молодых к деятельности взрослых людей — был присущ так же, как и любому другому типу общественной организации.
ОТРАЖЕНИЕ ВОЙНЫ И ВОЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКАХ ДРЕВНИХ КОЧЕВНИКОВ. ^
Археологический материал даёт исчерпывающие свидетельства того, что у древних кочевников широкое развитие имела военная организация; а война занимала в их жизни прочное место. Каждый мужчина, погребённый в фамильных камерах-срубах, это прежде всего воин, снабжённый полным набором вооружения. Ассортимент предметов вооружения, найденных при останках взрослых воинов, говорит о явной стандартизации: при каждом воине имеются кинжал-акинак, колчан со стрелами, боевой чекан, нож (говоря о ножах, следует учитывать и их хозяйственное, бытовое применение; это же относится и к луку со стрелами, которые использовались не только на войне, но и на охоте).
Важную роль войны и военной организации древних обществ особо отмечал К. Маркс, который, в частности, писал следующее: «...состоящая из ряда семей община организована прежде всего по-военному, как военная и войсковая организация, и такая организация является одним из условий её существования в качестве собственницы» [Маркс и Энгельс, т. 46, ч. I, с. 4651. При этом К. Маркс указывал, что войны велись как для захвата чужих территорий, так и для защиты своих земель.
О социальных процессах, связанных с возникновением регулярных войн, Ф. Энгельс писал: «Грабительские войны усиливают власть верховного военачальника, равно как и подчинённых ему военачальников; установленное обычаем избрание их преемников из одних и тех же семейств мало-помалу, в особенности со времени утверждения отцовского права, переходит в наследственную власть, которую сначала терпят, затем требуют и, наконец, узурпируют; закладываются основы наследственной королевской власти и наследственной знати. Так органы родового строя постепенно отрываются от своих корней в народе, в роде, во фратрии, в племени, а весь родовой строй превращается в свою противоположность: из организации племён для свободного регулирования своих собственных дел он превращается в организацию для грабежа и угнетения соседей, а соответственно этому его органы из орудий народной воли превращаются в самостоятельные органы господства и угнетения, направленные против собственного народа» [Маркс и Энгельс, т. 21, с. 164-165].
Рассмотрение археологических материалов скифского времени по Алтаю, Туве, Монголии, Казахстану и Средней Азии показывает, что племена, оставившие эти памятники, стояли на стадии разложения первобытнообщинного строя и развития социальной и имущественной дифференциации. Саглынские срубы или погребения алды-бельцев — это места захоронения семей военной аристократии; не случайно каждый погребенный мужчина снабжён
(59/60)
достаточно богатым набором вооружения. Не были ли эти знатные воины скифского времени в Туве, силою оружия установившие свою власть над рядовыми кочевниками, синонимичны знатным участникам военных дружин на Западе? Представляется, что в общем плане постановка такого вопроса вполне правомерна, невзирая на локальную специфику и взаимную хронологию — факторы, которые надо постоянно держать в поле зрения. Иными словами, процесс разложения первобытнообщинного строя у разных народов и на разных территориях Евразии наряду с местной спецификой не может не иметь сходных моментов и параллельных линий развития.
Археологические материалы дают конкретные свидетельства вытеснения этнических образований с определённых территорий в результате вторжения чужеродных этнических групп. В связи с этим нами был вновь пересмотрен важный вопрос о времени и обстоятельствах «ограбления» в древности курганных могильников. Установление датировки и целей нарушения погребений — дело сложное, однако практика полевых исследований показывает, что тщательная и всесторонняя фиксация исследуемых объектов даёт в ряде случаев возможность достоверно судить о времени нарушения погребений; большое значение имеют данные общей стратиграфии комплексов, не менее важно фиксировать в каждом отдельном случае степень разложения трупов погребённых людей к моменту проникновения в камеру «охотников за мёртвыми».
В целой серии случаев удалось установить, что нарушение древних погребений скифского времени было совершено вскоре после их сооружения, а мотивы проникновения в усыпальницы не были связаны только с поисками бронзовых, золотых и других ценностей. Так, некоторые курганы скифского времени в Центральной Туве (могильники Куйлуг-Хем I, Улуг-Оймак I, II) были нарушены явно не с целью простого грабежа, а по несколько иным мотивам; костяки погребённых были порублены и затем вновь завалены камнями, из погребений исчезли боевые кинжалы и многие другие предметы вооружения, но там были оставлены ценные золотые и бронзовые предметы. Естественно предположить, что в погребения проникли пришельцы, захватившие данную территорию и осуществлявшие «обезвреживание» мёртвых врагов.
Существенна в этом плане картина ограбления Второго Пазырыкского кургана на Алтае, восстановленная С. И. Руденко: с погребённых была сорвана и изорвана в клочья одежда, головы были отрублены, у женщины обрублены ступни, голени и кисть правой руки, надломлены пальцы. Туловища обоих погребённых были вырублены изо льда, заполнявшего колоду, и брошены к западной стенке камеры, отрубленные головы также отброшены. С. И. Руденко считает, что расчленение мумифицированных трупов понадобилось лишь для удобства грабежа — совлечения с погребенных гривн, браслетов, колец [Руденко, 1949, с. 264-265]. В этом с автором раскопок трудно согласиться: сравнение с картинами «разграбления» более скромных усыпальниц носителей среднего социального слоя саглынской культуры в Центральной Туве позволяет предположить, что и пазырыкские мумии были «обезврежены» людьми, проникшими в роскошные царские усыпальницы на Алтае.
Показательно, что радиокарбонная дата нарушения Первого Туэктинского кургана совершенно совпадает с общей датой памятника — 2450±120 лет [Руденко, 1960, с. 103; Вутомо, 1963, с. 26]. Большие Пазырыкские курганы также были ограблены вскоре после их сооружения, о чем свидетельствуют характеристики первой и второй мерзлотных фаз [Руденко, 1953, с. 21-22].
Проникновение в камеры Пазырыкских, Башадарских, Туэктинских курганов Алтая и курганов скифского времени Тувы велось большими коллективами людей, причём совершенно открыто. Представить в качестве подобных грабителей и осквернителей могил соплеменников погребённых, разумеется, невозможно. Известное свидетельство Геродота о почитании могил предков относится, правда, к западным скифам, однако приводимый Геродотом ответ Иданфирса Дарию весьма показателен для идеологии эпохи древних кочевников в целом. Скифский царь дал следующий ответ царю персов: «Никогда прежде я не убегал от страха ни от кого, не убегаю и от тебя, и теперь я не сделал ничего нового сравнительно с тем, что обыкновенно делал в мирное время. Почему я не тороплюсь сразиться с тобой, объясню тебе это. У нас нет городов, нет засаженных деревьями полей, нам нечего опасаться, что они будут покорены или опустошены, нечего поэтому торопиться вступать с вами в бой. Если бы вам крайне необходимо было ускорить сражение, то вот: есть у нас гробницы предков; разыщите их, попробуйте разрушить, тогда узнаете, станем мы сражаться с вами из-за этих гробниц или нет» (Геродот, IV, 127).
Нарушители покоя древних усыпальниц были, конечно, иноплеменниками, захватившими данные территории в результате военного вторжения. Чрезвычайный интерес представляет в связи с этим серия фактов перекрыва-
(60/61)
ния курганами алды-бельской культуры более древних погребений монгун-тайгинского типа в Туве. На могильниках Куйлуг-Хем I, Орта-Хем II, III, Чинге I курганы алды-бельцев как бы подавляют собою памятники предшествовавших им обитателей Центральной Азии. На разных могильниках отмечен один и тот же приём перекрывания — алды-бельские курганы перекрывают монгун-тайгинские краями. Факты эти можно трактовать как своего рода символику победы и завоевания территорий.
Современное состояние разработки вопросов социального устройства племен скифского времени, расселявшихся на территории Великого пояса степей, показывает, что археологические данные представляют достоверную информацию по вопросам как общего, так и частного значения. В то же время нельзя не констатировать, что разработка проблемы находится ещё в начальной стадии. Одна из наиболее существенных трудностей — наметившаяся неравномерность в исследовании конкретных историко-археологических зон, затрудняющая выполнение необходимых сопоставлений. Дальнейшая разработка проблем социального строя по археологическим данным, проводящаяся комплексным методом, представляется делом большой исследовательской перспективы. Успех на сложном пути расшифровки древних социальных форм будет, разумеется, принадлежать целевой археологии, находящейся в неразрывной связи с этнографической наукой.
[1] Ряд разделов этой главы и некоторые не включённые в неё общие положения были опубликованы: [Грач, 1975б, с.158-182].
[2] Сравнительно недавно исследования могильников эпохи бронзы ощутимо поколебали хрестоматийные представления о парных погребениях. Неодноактными оказались 6 из 9 парных разнополых погребений тазабагъябской культуры на могильнике Кокча 3, исследованных С. П. Толстовым и М. А. Итиной; более того, оказалось, что в 6 случаях разнополых погребений в трёх раньше мужчины была погребена женщина (см.: [Толстов, 1962, с.55]). Аналогичные факты были отмечены В. С. Сорокиным при исследовании могильника Тасты-Бутак I в Казахстане [Сорокин, 1959, с.12-13].
[3] Все три отрывка о савроматах цит. по изданию: [Геродот, 1972, с. 215-216].
[4] См.: [Геродот, 1972, с. 193]. В переводе Ф. Г. Мищенко первая часть фразы имеет несколько иной оттенок: «Вообще же этот народ считается справедливым…». [Геродот, 1888, с. 315].
|