|
Рис. 1. Конь в полном уборе (реконструкция по М.П. Грязнову).(Открыть Рис. 1 в новом окне) |
Рис. 2. Конская маска из Первого Пазырыкского кургана.(Открыть Рис. 2 в новом окне) |
ряются в глубине веков, восходя к неолиту и эпохе бронзы. Алтайские шаманы рассматривали оленя как духа-помощника и часто изображали его на деревянной рукояти шаманского бубна. Л.П. Потапов пишет, что на шаманских бубнах кумандинцы, тубалары, шорцы рисовали «небесных коней», называя их оленями и изображая с рогами. Сам шаманский бубен, обтянутый шкурой оленя-марала, служил «ездовым животным», с помощью которого шаман совершал свои путешествия в царство духов [19, с. 139].
Большой интерес для рассматриваемой нами темы представляют лингвистические данные, к которым неоднократно обращались исследователи Г.Н. Потанин, А.В. Анохин, Л.П. Потапов и др. В сравнительно недавнее время удачное, как нам представляется, обобщение некоторых из них было сделано А.Д. Грачом [6, с. 90-91]. У тюркоязычных народов Сибири существовал термин «буура», которым обозначали таких животных, как: олень, лось, баран, конь. Термин «буура», как отмечал А.Д. Грач, отражал несколько исторических напластований. Вначале этим словом называли рогатых животных, на которых охотились, позднее — прирученных животных и, прежде всего, коня, а в скифское время термин «буура» объединял образы рогатых животных с конём.
Этнографический материал дополняется любопытными археологическими находками. В плане сказанного интерес представляют не только конские маски с оленьими рогами, но и конские маски с козлиными рогами, найденные в Туэктинских и Башадарских курганах [21, с. 78, 231]. В курганах Катанда, Уландрык, Юстыд были обнаружены статуэтки коней, имевшие на голове оленьи или козлиные рога [11, с. 72-73]. В некоторых случаях у фигурок коней на спине сделаны прорези, в которые, по всей видимости, вставлялись кожаные крылья. Вероятно, В.Д. Кубарев прав, полагая, что деревянные скульптурки представляют собой символических «небесных коней» [11, с. 78]. Сходные фантастические образы известны также за пределами Алтая. Так, в кургане Иссык в Казахстане были обнаружены золотые протомы коней, увенчанные козлиными рогами [1, с. 18-19]. В Северном Причерноморье скифские кони украшались налобниками в виде схематично изображённого тела зверя с передними лапами, между которыми размещалась скульптурная голова [4, с. 64]. E.E. Кузьмина полагает, что «налобники с изображением оленя, прикреплявшиеся к уздечному убору лошадей ... были семантически тождественны обряду обряжения коня в оленя» [12, с. 104].
Уже сам по себе факт широкого распространения такого обряда указывает на то, что решение проблемы его происхождения — дело отнюдь не простое. По мнению А.Ю. Алексеева, появление в Скифии в V в. до н. э. традиции маскирования коней связано с новыми культурными или этническими импульсами с Востока [3, с. 85]. Таким образом, мы имеем дело с широко распространённым явлением, занимавшим существенное место в жизни ранних кочевников Алтая.
Предположение, что маски и аналогичные им по смысловому содержанию конские головные уборы были предназначены специально для похорон, отрицается большинством исследователей [20, с. 226; 4, с. 64]. Пожалуй, этой идее противоречит и конструкция маски. Одетая на голову коня, она оставляла свободными все необходимые для жизненных функций органы — глаза, ноздри, уши. Подтверждением идеи о том, что обряжение коня должно было «превратить» его в оленя, является маскировка специальными футлярами типичных конских черт — гривы и хвоста. М.И. Артамонов, так же как М.П. Грязнов, полагает, что маски были культовые. Интересно, что эти уборы использовались неоднократно, на что указывает маска из Пятого Пазырыкского кургана со следами починки в древности [4, с. 64]. Скорее всего, близок к истине С.И. Руденко, считавший конские маски церемониальными [20, с. 227].
Напомним, что многие специалисты — А.П. Окладников, А.И. Мартынов,
В.В. Бобров, В.Д. Кубарев, А.К. Акишев — связывали образ оленя с представлениями о солнечном космическом божестве [18, с. 60; 16, с. 68; 11, с. 72; 2, с. 39]. На это указывают сохранившиеся памятники монументального искусства с изображением оленей. Высеченные «рисунки» на оленных камнях и петроглифах вполне обосновывают представления о солярной символике образа оленя. На петроглифах Монголии (Чулуут IV) и Тувы («Дорога Чингисхана») довольно часто встречаются изображения оленей, на рогах которых покоится солнечный лучистый диск — «солнцерогие олени» [8, табл. 8; 17, с. 88, рис. 28].
Изображение копытного животного, несущего на своих рогах солнце, некоторые народы в древности связывали с созвездием Тельца [22, с. 354]. Например, в древней Индии в протоиндийское время символом знака Тельца выбрали быка-зебу, а в ведическое время — Овена [5, с. 288]. Момент вхождения солнца в зодиакальное созвездие Тельца в Индии отмечали как день весеннего равноденствия, который приходился на март месяц [5, с. 288].
В древнем Иране день весеннего равноденствия также падал на март и именно с него начинался новый год — Ноуруз, изображавшийся в искусстве Ирана как сцена терзания львом копытного [13, с. 108]. Не исключено, что этот распространённый сюжет проник в Евразийские степи и, так же как и его смысловое содержание, был воспринят саками.
У многих древних народов существовало представление о том, что Мировое дерево — «рогатое дерево». Например, в древней Индии Мировое дерево ашваттха называли «деревом буйвола», так как в его крону вкомпоновывались рога буйвола. Сама крона Мирового дерева соответствовала небу, на котором держится солнце [10, с. 178-179]. Может быть, рассматриваемый нами конь в маске с оленьими рогами (две ветви рогов, на которых держится солнце, — ветви Мирового дерева) тоже должен выступать в качестве опоры солнца или, иначе говоря, символом весеннего равноденствия и атрибутом нового года. Сцена терзания тигром оленя, представленная на маске, на мой взгляд, служит дополнительным аргументом в пользу этого предположения.
Любопытно, что в оформлении маски господствуют красные тона. Выбор этого цвета, по-видимому, не случаен. Известно, что многие народы связывали красный цвет с солнцем, жизнью, кровью, огнём [2, с. 127-132]. Может быть поэтому погребённые в «царских» Пазырыкских курганах кони были огненно-рыжей масти [7, с. 26-40]. Рыжий конь в маске с оленьими рогами, в оформлении которой господствует красная цветовая гамма, являлся зримым действующим атрибутом во время торжественной церемонии, может быть, по поводу прихода нового года или дня весеннего равноденствия (рис. 2). Понятно, что столь важная фигура была необходима племенному вождю не только в земной, но и в загробной жизни.
1. Акишев К.А. Курган Иссык — Issyk mound: Искусство саков Казахстана. М., 1978.
2. Акишев К.А. Искусство и мифология саков. Алма-Ата, 1987.
3. Алексеев А.Ю. Значение некоторых украшений конского оголовья в Евразийской Скифии V-IV вв. до н.э. // Исторические чтения памяти М.П. Грязнова / Тезисы докладов областной научной конференции по разделам: скифо-сибирская культурно-историческая общность. Раннее и позднее средневековье [надо: по разделам: М.П. Грязнов и его место в археологии; Теория и методология археологии; Каменный и бронзовый века; Скифская проблема.]. Омск, 1987.
4. Артамонов М.И. Сокровища саков. М., 1973.
5. Волчок Б.Я. Протоиндийские божества // Сообщения об исследовании протоиндийских текстов. М., 1972.
6. Грач А.Д. Древние кочевники в Центре Азии. М., 1980.
7. Грязнов М.П. Первый Пазырыкский курган. Л., 1950.
8. Дэвлет М.А. Петроглифы на кочевой тропе. М., 1982.
9. Киселёв С.В. Древняя история Южной Сибири. М, 1951.
10. Кнорозов Ю.В. Формальное описание протоиндийских изображений // Сообщения об исследовании протоиндийских текстов. М., 1972.
11. Кубарев В.Д. Древние изваяния Алтая (Оленные камни). Новосибирск, 1979.
12. Кузьмина Е.E. Конь в религии и искусстве саков и скифов // Скифы и сарматы. Киев, 1977.
13. Кузьмина Е.Е. В стране Кавата и Афросиаба. М., 1977.
14. Марр Н.Я. Средства передвижения, орудия самозащиты и производства в доистории. Л., 1926.
15. Марр Н.Я. К отчёту о заграничной командировке (17.III — 22.VI.1929) // Доклады Академии наук СССР. 1929. Вып. 17.
16. Мартынов А.И., Бобров В.В. Образ космического оленя в искусстве тагарской культуры // Бронзовый и железный век Сибири. Новосибирск, 1974.
17. Новгородова Э.А. Мир петроглифов в Монголии. М., 1984.
18. Окладников А.П. Олень золотые рога. Л.; М., 1954 [1964].
19. Потапов Л.П. Следы тотемистических представлений у алтайцев // Советская этнография. 1935. №4, 5.
20. Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. М.; Л., 1953.
21. Руденко С.И. Культура населения Центрального Алтая в скифское время. М.; Л., 1960.
22. Янкович М. Мифическое животное на звёздном Небе // Скифо-сибирское культурно-историческое единство. Кемерово, 1980.
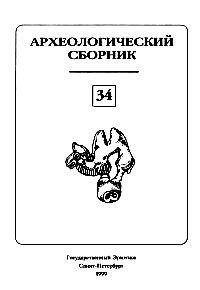 Л.Л. Баркова
Л.Л. Баркова
