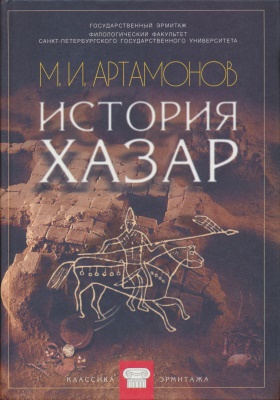 М.И. Артамонов
М.И. Артамонов
История хазар.
/ Издание второе. СПб: Филол. ф-т СПбГУ. 2002. 560 с. ISBN 5-8465-0032-3
(«Классика Эрмитажа. Исследования по истории и культуре»)
См. также 1-е издание.
[ аннотация на обороте обложки: ]
Фундаментальная работа М.И. Артамонова является итогом многолетнего изучения хазарской проблемы и даёт практически полный свод истории одного из крупнейших раннесредневековых образований Восточной Европы.
В книге на основе анализа как письменных, так и археологических материалов, рассматриваются вопросы происхождения хазар, принятия ими иудаизма, отношения с Византией, Русью, арабскими государствами и мн.др.
В книге представлена широкая панорама событий и исторических процессов, протекавших на всём обширном пространстве от Янцзы до Дуная.
Речь идёт не только о хазарах, но и о гуннах, болгарах, аварах и других народах, их происхождении и судьбах, об огромном Тюркском каганате, простиравшемся от Жёлтого моря до Чёрного.
Книга предназначена для специалистов и всех интересующихся историей и археологией.
Оглавление
С.А. Плетнёва. Предисловие ко второму изданию. — 11
1. Введение. — 35
2. Гуннские племена в Восточной Европе. — 66
3. Савиры. — 92
4. Утигуры и кутригуры. — 100
5. Авары. — 123
6. Первые известия хазарах. — 134
7. Тюркюты в Европе. — 152
8. Тюркюто-хазары в Закавказье. — 161
9. Великая Болгария. — 176
10. Возникновение и первое время существования Хазарского государства. — 188
11. Царство гуннов в Северном Дагестане. — 199
12. Союз Хазарии с Византией. — 210
13. Война с арабами. — 218
14. Отношения с Византией и арабами во второй половине VIII в. — 246
15. Принятие хазарами иудейской религии. — 272
Прибавление к главе 15. Необоснованные догадки С.П. Толстова о связях Хазарии с Хорезмом в VII в. — 291
16. Саркел. — 295
17. Гражданская война в Хазарии. Миссия Константина Философа. — 328
18. Мадьяры и печенеги. — 340
19. Хазары и аланы. — 356
20. Хазары и Русь. — 368
21. Город Итиль. — 388
22. Хазария в Х веке. — 403
23. Восточные соседи хазар. — 416
24. Крушение Хазарского царства. — 428
25. Хазарское наследство. — 439
Хронология событий, упомянутых в книге. — 459
Указатель имён. — 471
Указатель названий. — 485
Список иллюстраций. — 501
Список сокращений. — 507
Приложения.
Славяне и болгары в Поднепровье. — 515
Основная литература по истории хазар, изданная в 1962-2001 гг. — 527
Список печатных работ М.И. Артамонова. — 533
Литература о М.И. Артамонове. — 539
Основные даты жизни и научной деятельности М.И. Артамонова. — 541
Contents. — 548
М.И. Артамонов и классика эрмитажной науки. ^
Государственный Эрмитаж и филологический факультет СПбГУ начинают выпуск серии «Классика Эрмитажа». Это — ответ на явно ощутимую потребность общества, на стойкий интерес к знаменитым трудам учёных Эрмитажа.
Речь идёт об исследованиях, которые, несмотря на прошедшее время и множество новых работ нескольких поколений учёных, не утратили своей научной и общественной актуальности, добротности своей фактической и источниковедческой части, увлекательности в стиле мышления и в изложении хода мысли исследователя.
Место Эрмитажа в российской науке и культуре определяется не только его замечательными коллекциями и удивительными зданиями, но и той работой по осмыслению великих памятников мировой культуры, которая всегда была важнейшей частью деятельности музея. Напряжённость ученых размышлений, мучительный поиск вопросов и решений, споры о деталях и мировоззрениях, небесные озарения и наслаждения тщательной шлифовкой деталей научного рассуждения — все эти элементы счастливого научного творчества и сегодня составляют духовную материю, духовный воздух музея. Это — одна из главных традиций, которую наши великие предки завещали нам сохранить. Делать это нам помогают их труды, из которых мы и хотим сложить начинаемую серию.
Эрмитаж — его искусствоведы, историки, археологи — всегда был увлечены самыми захватывающими темами отечественной и мировой истории. Скифы и «скифский звериный стиль», государство Урарту, блеск культур Ирана и Средней Азии, происхождение славян, норманнская теория и истоки русской государственности, Золотая Орда, древняя Сибирь, Византия и Русь, Возрождение и Рембрандт, Матисс и русские собиратели. Темы эти несметны. Все они актуальны и сегодня, все они окутаны ещё и флёром научной романтики.
Быть может самой романтичной и как бы ускользающей из рук исследователя остаётся и сегодня тема «Хазары», которой посвятил значительную часть
(7/8)
своих жизненных сил и свою знаменитую книгу Михаил Илларионович Артамонов. Знаменитый археолог, автор множества блестящих раскопок и большого числа работ, посвящённых ключевым темам отечественной истории, он был директором Эрмитажа с 1951 по 1964 г. До этого М.И. Артамонов руководил Институтом истории материальной культуры АН СССР, а впоследствии — кафедрой археологии Ленинградского государственного университета. В 1998 г. мы отмечали столетие со дня его рождения. Опубликованные тогда статьи и доклады дают хорошее представление о его научных заслугах и о том, как видится его наследие из нашего сегодняшнего дня. Оно живо и продолжает увлекать, стимулировать и спор, и поиск. [1]
Книга о хазарах опубликована М.И. Артамоновым в бытность его директором Эрмитажа. Именно в стенах нашего музея этот кочевой народ особо захватил его мысли. Кочевой народ — одна из волн последовательных кочевнических вливаний в степи Восточной Евразии, знаменитые воины, противостоявшие Арабскому халифату и совершавшие набеги на Русь. Их имя было хорошо известно в разных концах средневекового мира. О них писали восточные учёные и русские летописцы. Они владели степями и городами, главный из которых так и не удаётся найти. Романтик из романтиков, Л.Н. Гумилёв даже предположил, что хазарские города вовсе ушли под воду. [2] Хазары удивили мир, приняв иудаизм в качестве государственной религии. Это событие и сегодня вызывает споры. Не совсем ясно, когда это произошло на самом деле, насколько серьёзно сказалось принятие новой религии на жизни народа в целом, почему это вообще произошло? Одним из ярких знаков этих проблем является знаменитая чаша с изображением пылающего куста Моисея, найденная в Перещепинском кладе. И сегодня волнуют и исследователей, и увлечённых любителей таинственные знаки на каменных блоках из Саркела. Сколько споров о том, куда подевались хазары, наследники ли им караимы и восточноевропейские евреи, т.д. и т.д.
Хазары интересны всем. Одна из лучших книг XX века — «Хазарский словарь» Милорада Павича — обязана своим успехом, при несомненном великом таланте писателя, и таинственной загадке, которая всегда будет окутывать слово «хазары», сколько бы серьёзных работ не [ни] писали кабинетные учёные. Специальный сайт в Интернете, посвящённый хазарским проблемам, хорошо иллюстрирует и острый интерес к проблеме, и то обилие вненаучных аллюзий, связей и настроений, которые окружают хазар. [3]
О хазарах много написано уже после Михаила Илларионовича. Есть издания новых археологических материалов. Их много, многие загадки получили своё решение, создав, правда, загадки новые. Есть обобщающие труды С.А. Плетнёвой и А.П. Новосельцева, в которых собран впервые и заново переосмыслен огром-
(8/9)
ный археологический материал и запутанные данные письменных источников. Книги о хазарах выходят по всему миру, и чуть ли ни каждый год. [4]
И на этом вот фоне «История хазар» Артамонова сохраняет своё значение не просто как раритет, но как живой участник мировой научной жизни. На этом примере интересно и полезно посмотреть на то, как и почему сохраняют своё живое тепло и не устаревают многие книги, построенные на конкретных материалах, число которых многократно возрастает после издания работы. С «Историей хазар» дело ещё сложнее. Она написана в эпоху жесткого идеологического диктата, в условиях и в традициях марксистской науки, сегодня вовсе не модной. Но даже явные идеологические реверансы и натяжки не делают книгу скучной. Напротив, они сегодня вызывают особый интерес как приём, в рамках которого удавалось вести и публиковать тщательное, вдохновенное и одновременно — строгое научное исследование. Этим качеством обладают шедевры советской исторической науки.
Книга Артамонова построена на огромном фактическом материале, препарированном и истолкованном самым тщательным образом. Потому созданная им картина хазарского мира остаётся достоверной и сегодня, а его стиль размышления и изложения идей, привлекает уже и сам по себе, безотносительно к конкретным выводам. Он вернул истории хазар, представив миру их материальную культуру, впервые сделав их самих и их историю «осязаемыми». Дальше всем было уже легче. Описание и систематизация материала, рассуждения и выводы очень спокойны, сдержанны, осторожны. Все острые углы обходятся умело, но со спокойным достоинством. Однако, несмотря на всю эту строгость, присущую Артамонову как учёному, читатель ощущает романтическую увлечённость, душевную причастность автора и к материалу, и к давно исчезнувшим людям, и к загадкам, которые они нам оставили.
Читатель получает не только информацию, но и удовольствие от этого сочетания размеренного движения и внутреннего стремительного бега. «Историю хазар» читать и интересно, и приятно. Потому она притягивает читателей, которым мы хотим сделать подарок, напомнив лишний раз о том, какие замечательные люди создавали эрмитажные традиции.
М.Б. Пиотровский
[1] Скифы. Хазары. Славяне. Древняя Русь. Материалы Международной конференции, посвящённой 100-летию со дня рождения профессора М.И. Артамонова. 9-12 декабря 1998 г. СПб., 1998.
[4] С.А. Плетнёва. Хазары. М.: Наука, 1986; Новосельцев А.П. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа. М., 1990; Лурье В.М. / Рец. на кн.: Brook К.A. The Jews of Khasaria. Northvale — Jersey — Jerusalem: Jason Aronson Inc., 1999 // Христианский Восток. Т. II (VIII). СПб., 2001. С. 436-441. См. также список литературы о Хазарии, вышедшей после издания монографии М.И. Артамонова, который помещён в конце книги.
(/457)
Заключение. ^
Мы проследили историю хазарского народа от возникновения до его конца. Мы видели, что судьба хазар и созданного ими государства была изменчивой и противоречивой. Предки хазар — потомки гуннов — не унаследовали традиций срединноазиатской культуры, растерянной среди постоянных переселений, славных побед и жестоких поражений. Но азиатская традиция всё-таки пришла к ним, и соучастие в предприятиях тюркютских ханов спаяло осколки самых разных племён в единый народ. Даже после падения Тюркютского каганата хазары остались верны древнетюркютским обычаям и так же острой саблей и длинным копьём распространяли свою власть над соседними племенами и народами.
Тем не менее, в эту эпоху роль хазар в истории была прогрессивной. Они остановили натиск арабов, открыли двери византийской культуре, установили порядок и безопасность в прикаспийских и причерноморских степях, что дало мощный толчок для развития народного хозяйства этих стран и обусловило заселение славянами лесостепной полосы Восточной Европы.
Но принятие иудейской религии было для них роковым шагом. С этого времени был потерян контакт правительства с народом и на смену развития скотоводства и земледелия наступила эпоха посреднической торговли и паразитического обогащения правящей верхушки. Новое правительство справедливо не верило своему народу и держалось на копьях мусульманской гвардии. Талмудическая образованность не затрагивала массы, оставаясь привилегией немногих. С этого времени роль Хазарского каганата стала резко отрицательной и культура народов Восточной Европы потекла по другим руслам.
Всё богатство, накопленное иудейскими купцами в Итиле, не могло купить сердец заселявших лесостепи славян, степняков Причерноморья — печенегов, кочевников зауральской равнины — гузов, занимавших горные ущелья Среднего Кавказа алан и обитавших по Азовскому побережью болгар. Данлоп, собиравшийся написать историю иудейских хазар, не понял, какую коварную роль сыграло иудейство с Хазарским государством. Иудеи сумели стать во главе государства, но оно растаяло в их руках потому, что полностью порвалась связь между правительством и народом. Хазарские иудеи не учли, что религия является могучим фактором социального объединения даже тогда, когда в нём не нуждается экономическая основа. А иудейская религия в силу своей специфики не могла стать религией не только многих народов, входивших в состав Хазарского государства, но даже и самих хазар в целом.
(457/458)
Самым могучим врагом иудейской Хазарии стала Киевская Русь, на пути экономического и политического развития которой она оказалась. Последствием столкновения было полное и окончательное уничтожение Хазарии. Погибло Хазарское государство, исчез и хазарский народ. Последнее заслуживает особого внимания, так как обычно народы не исчезают с уничтожением их государств. В данном случае это произошло потому, что хазарский народ стал исчезать задолго до крушения Хазарского царства. Он распался на части, из которых большинство сливалось с другими родственными народами, а меньшинство, засевшее в Итиле, утратило свою национальность и превратилось в паразитический класс с иудейской окраской.
Русские никогда не чуждались культурных достижений Востока. От тюркютов они унаследовали титул кагана, который принимали первые киевские князья, от печенегов была заимствована удельно-лествичная система — знаменитый «ряд Ярославль», от половцев изогнутые сабли — «мечи харалужные» (карлукские) и многое другое, а от итильских хазар русы не взяли ничего. Впрочем, так же относились к воинствующему хазарскому иудаизму и другие связанные с хазарами народы: мадьяры, болгары, печенеги, аланы и половцы. Именно потому от позднехазарской культуры нигде не осталось следов.
Но, вместе с тем, нельзя преуменьшать значение даже этого позднего периода хазарской истории, хотя оно было по существу негативным. Необходимость бороться с эксплуататорами из Итиля стимулировала объединение гузов и славян вокруг золотого стола Киевского, а это объединение, в свою очередь, создало возможность и перспективу для бурного роста не только русской государственности, но и древнерусской культуры. Эта культура всегда была самобытной и никогда не находилась в зависимости от хазар. Те незначительные, переданные через Хазарию восточные элементы в русской культуре, которые обычно имеются в виду, когда дело касается вопроса о культурных связях руси и хазар, не проникли в глубь русской культуры, а, оставаясь на поверхности, имели кратковременное и малое значение. Они не дают никакого основания выделять особый «Хазарский» период в истории русской культуры. Всемирно-историческое значение хазар заключается в том, о чём было сказано во «Введении» и что рассказано на предшествующих страницах.
Более ста лет просуществовала идеалистическая концепция истории хазар, созданная юным В.В. Григорьевым. Сокрушительный удар ей был нанесён только в наше время маленькой критической заметкой, напечатанной в «Правде» никому не известным П. Ивановым. Б.А. Рыбаков поторопился, вопреки фактам, низвести хазар на второстепенную историческую роль. Моя задача заключалась в том, чтобы путём пересмотра всех доступных в настоящее время данных по истории хазар установить истину. Она оказалась много сложнее, чем это казалось и В.В. Григорьеву, и Б.А. Рыбакову. Ну, что ж! Так бывает всегда, когда мы внимательно и подробно знакомимся с тем или другим явлением, всё равно, в жизни или в истории.
(/543)
THE HISTORY OF THE KHAZARS. ^
The work of M.I. Artamonov is the first sequential account known in Soviet historical publications – of the history of the southern part of Eastern Europe from the IVth to the XIth centuries, the main area of examination being the history of Khazars and their state, which had existed for a little less than 300 years. Many points of Khazar history have been either dealt with for the first time or shown in a new light on the basis of the author’s original investigations. These investigations have been made not only on the scanty materials found in Byzantine, Armenian, Arabic and other authors, but also on the archaeological finds of the Khazar period brought to light by the author himself and stored at present, in the State Hermitage Museum. Of great importance among them are the excavation material of Sarkil or Biela Viezha, a border fortress of the Khazar period, and later a Russian town, situated in the lower course of the Don on its way from Tmutorokan to the lower Volga.
A wide reference to archaeological data, for purposes of interpreting the history of the Khazars, referred to in the book, not only distinguishes it from other works on the same subject, but also enables the author – a qualified archaeologist – to deal with problems that none of his predecessors could have either set or dealt with.
The Hun invasion marked a new period in the history of eastern Europe. An important ethnic reconstruction of the tribes took place in the southern regions of the country from that time. The control of the territory passed from Iranian to Turkic speaking tribes consisting of the Turkized Ugrs from western Siberia and the remains of the Sormat-Alans assimilated by the invaders from central Asia. Temporary military powers rose and fell amidst these tribes whose patriarchal clan system was complicated by a developed economic inequality and slavery. Byzantium and the Sassanian Iran made use of these military powers in their endless wars. The Akatzirs, the Sabirs, the Saragurs, the Onogurs, the Utigurs, the Kutrigurs, and, at last, the Avars rose to the stage of history and passed away one after another. It was only the Avars who succeeded in the second half of the VIth century – by subjugating the Slav population – to found a relatively permanent state in central Europe and, for some time, to exercise control over the tribes of Kutrigurs on the northern shores of the Black Sea. At the same time a vast but – as had been the case with most of the
(543/544)
nomad states – the short-lived empire, the Turkut Khaganate, extended its power over the steppes farther east of the Don.
The Turkut empire disintegrated after 100 years of existence, torn apart by internecine civil wars; and new kingdoms – the Khazar and the Bulgar – rose on its ruins in eastern Europe. The fierce struggle of these two states very soon ended in the expulsion of the Bulgars beyond the Danube, and the rise of the powerful Khazar Empire, extending its power over the southern part of Eastern Europe. At the head of the Khazar state stood an old Turkut dynasty, and the Khazars, who nomadised in the eastern coastal lands of the Caspian between the courses of the Volga and the Terek, constituted the core of the state. The nearest neighbours of the Khazars were the Bulgars of the Kuban river valley and the Sabirs of northern Dagestan who were under Khazar supremacy. The Sabirs are also known as the Huns. They were beginning to profess Christianity, while Jews penetrated into Khazaria from Iran.
The Khazar state at the point of its flourishing checked the advance of nomad hordes from Asia, creating conditions for colonization not only of the wooded steppe belt, but also, partially, of the steppes themselves. In the VIIIth century, the process of settled cultivation in the steppes, closely connected with intensive social and economic differentiation, takes place among some of the nomad tribes. In the country of the Don and the Donets, in northern Caucasus, and in eastern Crimea appear many agricultural settlements and castles protected by stone walls. Trade begins to develop, old towns on the shores of the Black Sea come back to life and new ones spring up in northern Caucasus and the lower Volga. Khazaria was the first feudal state in Eastern Europe, which ranged together with the Byzantine Empire and the Arab Caliphate. It boldly interfered in the international affairs of its time and laid claim to the territories of Eastern Transcaucasia. In Transcaucasia the Khazars met with another aggressive nation – the Arabs, and a close alliance was formed between Byzantium and Khazaria in the face of the common enemy. It was only due to the powerful Khazar attacks, diverting the tide of the Arab armies to the Caucasus, that Byzantium withstood against them. Inspite of the fact that as a result of a continuous war, lasting for three decades, and apparently terminating in a glorious victory of the Arabs over the Khazars – their Khagan being forced to turn Muslim in 737 – the Khazars exhausted the resources of the Arabs, made them stop in the Caucasus, and checked their further progress into Eastern Europe. The Arabs were forced to send a request for terms seeking an alliance with the Khazars, while the tribes of Transcaucasia looked hopefully to Khazar assistance in their struggle for independence.
Byzantium appreciated friendly relations with the Khazars and tried to strengthen the alliance by all means, intermarriages of the ruling dynasties including. In the 80s of the VIIIth century Byzantium did not support the Goth uprising in the Crimea against the Khazars, though it tried to strengthen its own influence in Khazaria by means of uniting the Khazar Christians into a dependent religious body, the so-called Gothic Eparchy, controled by Byzantium.
The conversion of the Khazar Khagan and his attendants to Judaism thus promoting Judaism to a position of state religion is a phenomenon unprecedented in the
(544/545)
history of the Middle Ages. Judaism had been adopted by a Khazar prince in northern Dagestan as early as the 30s of the VIIIth century, but the fact didn’t affect the inner life of the Khazar kingdom, and the Khazar population continued to enjoy full liberty of religion for all, professing Christianity, Islam or even worshipping their old Turkic god Tengri-khan. At the opening of the IXth century, however, the Jewish Khazars grew in importance at the Khazar’s court, seized power and instituted the double kingship, reducing the Khagan, the descendant of the Turkut dynasty, to a position of a sacred king set aside from state power. A political and religious coup d’etat carried through by Obadiah, founder of the Jewish Khazar king dynasty, was followed by religious persecution of Christians and Muslims resulting, in particular, in the abolition of the Gothic Province church unity of the Christian Khazars who were rather numerous in the Crimea and northern Caucasus. An uprising against the usurper, followed by a long civil war in Khazaria, brought about its decline, and opened the way for the Madyars (Hungarians) into Europe; then came the Pechenegs, who appeared for the first time on the stage of history.
The few Khazars remaining after the unsuccessful uprising and surviving the sanguinary civil wars became known as «Khabars»; they joined the Madyars and settled together with them in Atelkuza, the country between the two rivers – the Dnieper and the Donets. The Khazar Khagan tried to use the Madyars as allies in his wars against the Pechenegs. He helped them to institute kingship under his protection, but failed in his attempts. The Madyar state had but a short life, and the end of the IXth century saw the Madyars give way under heavy attacks of the Pechenegs and Bulgars and migrate to the regions of present-day Hungary. The Pechenegs remaining the sole possessors of the steppes north of the Black Sea, the inner lands of Khazaria turned into hostile provinces.
Slav tribes inhabiting the country along the river Dnieper took the opportunity to throw the Khazar yoke and in the IXth century laid the foundation of an independent state of their own which began to expand and consolidate in the struggle with the Khazars and other enemies.
By this time, the whole economic structure of the Khazar state had considerably changed. A typically military empire of former days whose main concern was warfare and plunder, the Khazar empire of Jewish rulers turned to trading, profiting by its favorable geographical position across important trade-routes of Asia and Europe and also between the south and the north. Customs dues and tithes on merchandise coming alongthese routes became the source of the king’s income and means for supporting his magnificent court and paid army, which alone could secure him temporary power over the agglomeration of diversified and economically disconnected tribes, longing for independence, but still remaining in the Khazar state. Deprived of territories and distrusted by the population, the weakened Khazar authority existed now only by force of arms of the paid troops.
After the conversion of the Khazars to Judaism, Byzantium continued to maintain friendly relations with Khazaria for some time and even assisted in 834 in building Sarkil, a fortress on the Don. Constantine’s (Syril) mission resulted in the restoration
(545/546)
of some local churches in Khazar regions, but they never became united in anything like the abolished Gothic Eparchy. Eventually with the eclipse of the military glory of the Khazars the attitude of Byzantium underwent a quick change. In the first half of the Xth century, Byzantium organized a number of unsuccessful raids against the Khazars by their neighbours: the Ghuzz, the Pechenegs, the Asies, and the Alans. Khazaria found strength enough to defeat the intruders, but shortly afterwards, in the year 913/4 and 943/4, strong Russian-Varangian hired bodies of men at arms, dismissed by Russian princes, crossed the Khazar lands on their plunder expedition to the Caspian coast, the Khazars being unable to put up resistance.
The center of the Khazar empire of the IXth-Xth centuries was the town of Atil situated on both banks of the Volga, later, Saray-i-Butu, the first capital of the Gold Horde, was built on its site. The eastern part of the town was inhabited by merchants and craftsmen from different countries, the western – was reserved for the purebred Khazars, and king’s paid body-guard consisting chiefly of Muslims. The Khazars remained du ring the winter in town. In spring they went out to the steppes and stayed there till autumn pasturing flocks. Lands formally assigned to separate clans were in fact in feudal possession of the clan and military aristocracy with all the consequent duties paid to them by the actual producers. Some of the lands we re cultivated and yielded crops which were taken to town in autumn.
The important position of Khazaria in international trade relations and the diversified pattern of the population of its capital caused the Jewish Khazars to turn from previous religious intoleration to full liberty of various creeds for all. Especially as Judaism was essentially non-proselytic, and remained the religion of the ruling class only, which rather separated than contributed to the unity of the Khazar population, other religions being extensively practiced, old Turkic paganism being particularly popular. Hebrew learning flourished only at the king’s court but there it led to the appearance of historical works such as local genealogies and chronicles. Wide sections of Turkic speaking populace of Khazaria used Tiurk runic letters. The Khazars didn’t create any material culture of their own but developed old Sarmat-Alan traditions supplemented with some borrowings from Central Asia and Iran-Arab East. The Khazars and Bulgars differed very little ethnographically and are supposed to have been descendants of the Alans remaining in Central Caucasus and along the northern outskirts of the steppes between the Don and the Donets. The Madyars brought the elements of the same culture to Hungary. Other Turkic speaking nomads who invaded Europe, beginning with the Pechenegs, belonged to a different ethnographical type reminding more of a standard formed in Central Asia of the Khaganate period.
The downfall of Khazaria was the consequence of defeats inflicted by the Russians who joined forces against the Khazars with the Ghuzz, hostile tribes from the regions beyond the Volga. The Russian state claimed to inherit predominance of the Khazars in the East-European steppes, as well as to capture control of eastern trade-routes and trade, which had so much enriched the Khazars and in which the Russians themselves actively participated. In consequence of Sviatoslav and Vladimir’s expeditions down the Volga nearly all Khazar territories were lost to the Russians inspite
(546/547)
of the interference of Khwärizm, whose assistance the Khazars secured adopting Islam. Only Bulgaria on the Volga remained independent and continued to control the middle Volga water-way. In this connection the important role of the Russian principality of Tmutarakan becomes evident. It exercised strong political influence over all the lands in the south-east including the strait of Kertch, the country of Kuban river, the lower Povolzhye, and the lower Podonye and secured for the Russians free trade with the East. In the beginning of the XIIth century the Russian State was forced, under the stress of feudal strife, to retreat before the invasion of the new nomad horde – the Komans – and lose the remains of the Khazar heritage. The mastery of the steppes passed to the Komans, and any traces of the Khazars and other Turkic speaking tribes vanished among them.
This book gives not only a pragmatic account of the history of the southern part of Eastern Europe of the IVth-XIth centuries, but also throws light on general laws of historical development, and on many particular points which are of importance for the history of some peoples and territories constituting once the Khazar kingdom, such as for instance the Goths of the Crimea, the Hun-Sabirs of northern Dagestan, the Black Bulgars of the Kuban river, the Alans, the Asies and many others. The book deals also with the important role of the West-Turkut Khaganate in the history of Eastern Europe.
The notes of Lev Gumilev, the editor of the book, contain valuable additions and new standpoints relating to the historical event of Eurasia which expand and enrich the account of the author. The book is intended not only for historians, but also for nonspecialists possessing elementary historical knowledge. The table of contents gives the plan upon which the book has been constructed.
This second edition of Mikhail Artamonov’s book, The History of Khazars, is part of the Series, Hermitage Classics – Studies in History and Culture. Leading experts of the Hermitage have taken part in preparing the book for publication. Mr. Mikhail Piotrovsky, the Hermitage Director, has written the Preface for the book. The edition contains illustrations and bibliography related to Artamonov’s life and work, as well as a paper by the famous Khazar historian Svetlana Pletnyova, who was Artamonov’s pupil.
наверх
|